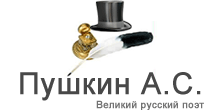|
|
Источник:
ГЛАВА ПЕРВАЯ - ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ ВО ВРЕМЯ ПОХОДА 1829 ГОДА - А.С.Пушкин
Оглавление
Степи. Калмыцкая кибитка. Кавказские воды. Военная Грузинская дорога.
Владикавказ. Осетинские похороны. Терек. Дариальское ущелие. Переезд через
снеговые горы. Первый взгляд на Грузию. Водопроводы. Хозрев-Мирза. Душетский
городничий.
...Из Москвы поехал я на Калугу, Белев и Орел, и сделал таким образом
200 верст лишних; зато увидел Ермолова. Он живет в Орле, близ коего
находится его деревня. Я приехал к нему в восемь часов утра и не застал его
дома. Извозчик мой сказал мне, что Ермолов ни у кого не бывает, кроме как у
отца своего, простого, набожного старика, что он не принимает одних только
городских чиновников, а что всякому другому доступ свободен. Через час я
снова к нему приехал. Ермолов принял меня с обыкновенной своей любезностию.
С первого взгляда я не нашел в нем ни малейшего сходства с его портретами,
писанными обыкновенно профилем. Лицо круглое, огненные, серые глаза, седые
волосы дыбом. Голова тигра на Геркулесовом торсе. Улыбка неприятная, потому
что не естественна. Когда же он задумывается и хмурится, то он становится
прекрасен и разительно напоминает поэтический портрет, писанный Довом. Он
был в зеленом черкесском чекмене. На стенах его кабинета висели шашки и
кинжалы, памятники его владычества на Кавказе. Он, по-видимому, нетерпеливо
сносит свое бездействие. Несколько раз принимался он говорить о Паскевиче и
всегда язвительно; говоря о легкости его побед, он сравнивал его с Навином,
перед которым стены падали от трубного звука, и называл графа Эриванского
графом Ерихонским. "Пускай нападет он, - говорил Ермолов, - на пашу не
умного, не искусного, но только упрямого, например на пашу,
начальствовавшего в Шумле, - и Паскевич пропал". Я передал Ермолову слова
гр. Толстого, что Паскевич так хорошо действовал в персидскую кампанию, что
умному человеку осталось бы только действовать похуже, чтоб отличиться от
него. Ермолов засмеялся, но не согласился. "Можно было бы сберечь людей и
издержки", - сказал он. Думаю, что он пишет или хочет писать свои записки.
Он недоволен Историей Карамзина; он желал бы, чтобы пламенное перо
изобразило переход русского народа из ничтожества к славе и могуществу. О
записках кн. Курбского говорил он con amore {4}. Немцам досталось. "Лет
через пятьдесят, - сказал он, - подумают, что в нынешнем походе была
вспомогательная прусская или австрийская армия, предводительствованная
такими-то немецкими генералами". Я пробыл у него часа два. Ему было досадно,
что не помнил моего полного имени. Он извинялся комплиментами. Разговор
несколько раз касался литературы. О стихах Грибоедова говорит он, что от их
чтения - скулы болят. О правительстве и политике не было ни слова.
Мне предстоял путь через Курск и Харьков; но я своротил на прямую
тифлисскую дорогу, жертвуя хорошим обедом в курском трактире (что не
безделица в наших путешествиях) и не любопытствуя посетить Харьковский
университет, который не стоит курской ресторации.
До Ельца дороги ужасны. Несколько раз коляска моя вязла в грязи,
достойной грязи одесской. Мне случалось в сутки проехать не более пятидесяти
верст. Наконец увидел я воронежские степи и свободно покатился по зеленой
равнине. В Новочеркасске нашел я графа Пушкина, ехавшего также в Тифлис, и
мы согласились путешествовать вместе.
Переход от Европы к Азии делается час от часу чувствительнее: леса
исчезают, холмы сглаживаются, трава густеет и являет большую силу
растительности; показываются птицы, неведомые в наших лесах; орлы сидят на
кочках, означающих большую дорогу, как будто на страже, и гордо смотрят на
путешественников; по тучным пастбищам
Кобылиц неукротимых
Гордо бродят табуны.
Калмыки располагаются около станционных хат. У кибиток их пасутся их
уродливые, косматые кони, знакомые вам по прекрасным рисункам Орловского.
На днях посетил я калмыцкую кибитку (клетчатый плетень, обтянутый белым
войлоком). Все семейство собиралось завтракать. Котел варился посредине, и
дым выходил в отверстие, сделанное в верху кибитки. Молодая калмычка, собою
очень недурная, шила, куря табак. Я сел подле нее. "Как тебя зовут?" - ***.
- "Сколько тебе лет?" - "Десять и восемь". - "Что ты шьешь?" - "Портка". -
"Кому?" - "Себя". Она подала мне свою трубку и стала завтракать. В котле
варился чай с бараньим жиром и солью. Она предложила мне свой ковшик. Я не
хотел отказаться и хлебнул, стараясь не перевести духа. Не думаю, чтобы
другая народная кухня могла произвести что-нибудь гаже. Я попросил
чем-нибудь это заесть. Мне дали кусочек сушеной кобылятины; я был и тому
рад. Калмыцкое кокетство испугало меня; я поскорее выбрался из кибитки и
поехал от степной Цирцеи.
В Ставрополе увидел я на краю неба облака, поразившие мне взоры ровно
за девять лет. Они были все те же, все на том же месте. Это - снежные
вершины Кавказской цепи.
Из Георгиевска я заехал на Горячие воды. Здесь нашел я большую
перемену: в мое время ванны находились в лачужках, наскоро построенных.
Источники, большею частию в первобытном своем виде, били, дымились и стекали
с гор по разным направлениям, оставляя по себе белые и красноватые следы. Мы
черпали кипучую воду ковшиком из коры или дном разбитой бутылки. Нынче
выстроены великолепные ванны и дома. Бульвар, обсаженный липками, проведен
по склонению Машука. Везде чистенькие дорожки, зеленые лавочки, правильные
цветники, мостики, павильоны. Ключи обделаны, выложены камнем; на стенах
ванн прибиты предписания от полиции; везде порядок, чистота, красивость...
Признаюсь: Кавказские воды представляют ныне более удобностей; но мне
было жаль их прежнего дикого состояния; мне было жаль крутых каменных
тропинок, кустарников и неогороженных пропастей, над которыми, бывало, я
карабкался. С грустью оставил я воды и отправился обратно в Георгиевск.
Скоро настала ночь. Чистое небо усеялось миллионами звезд. Я ехал берегом
Подкумка. Здесь, бывало, сиживал со мною А. Раевский, прислушиваясь к
мелодии вод. Величавый Бешту чернее и чернее рисовался в отдалении,
окруженный горами, своими вассалами, и наконец исчез во мраке...
На другой день мы отправились далее и прибыли в Екатериноград, бывший
некогда наместническим городом.
С Екатеринограда начинается военная Грузинская дорога; почтовый тракт
прекращается. Нанимают лошадей до Владикавказа. Дается конвой казачий и
пехотный и одна пушка. Почта отправляется два раза в неделю, и проезжие к
ней присоединяются: это называется оказией. Мы дожидались недолго. Почта
пришла на другой день, и на третье утро в девять часов мы были готовы
отправиться в путь. На сборном месте соединился весь караван, состоявший из
пятисот человек или около. Пробили в барабан. Мы тронулись. Впереди поехала
пушка, окруженная пехотными солдатами. За нею потянулись коляски, брички,
кибитки солдаток, переезжающих из одной крепости в другую; за ними заскрыпел
обоз двуколесных ароб. По сторонам бежали конские табуны и стада волов.
Около них скакали нагайские проводники в бурках и с арканами. Все это
сначала мне очень нравилось, но скоро надоело. Пушка ехала шагом, фитиль
курился, и солдаты раскуривали им свои трубки. Медленность нашего похода (в
первый день мы прошли только пятнадцать верст), несносная жара, недостаток
припасов, беспокойные ночлеги, наконец беспрерывный скрып нагайских ароб
выводили меня из терпения. Татаре тщеславятся этим скрыпом, говоря, что они
разъезжают как честные люди, не имеющие нужды укрываться. На сей раз
приятнее было бы мне путешествовать не в столь почтенном обществе. Дорога
довольно однообразная: равнина; по сторонам холмы. На краю неба вершины
Кавказа, каждый день являющиеся выше и выше. Крепости, достаточные для
здешнего края, со рвом, который каждый из нас перепрыгнул бы в старину не
разбегаясь, с заржавыми пушками, не стрелявшими со времен графа Гудовича, с
обрушенным валом, по которому бродит гарнизон куриц и гусей. В крепостях
несколько лачужек, где с трудом можно достать десяток яиц и кислого молока.
Первое замечательное место есть крепость Минарет. Приближаясь к ней,
наш караван ехал по прелестной долине между курганами, обросшими липой и
чинаром. Это могилы нескольких тысяч умерших чумою. Пестрелись цветы,
порожденные зараженным пеплом. Справа сиял снежный Кавказ; впереди
возвышалась огромная, лесистая гора; за нею находилась крепость. Кругом ее
видны следы разоренного аула, называвшегося Татартубом и бывшего некогда
главным в Большой Кабарде. Легкий, одинокий минарет свидетельствует о бытии
исчезнувшего селения. Он стройно возвышается между грудами камней, на берегу
иссохшего потока. Внутренняя лестница еще не обрушилась. Я взобрался по ней
на площадку, с которой уже не раздается голос муллы. Там нашел я несколько
неизвестных имен, нацарапанных на кирпичах славолюбивыми путешественниками.
Дорога наша сделалась живописна. Горы тянулись над нами. На их вершинах
ползали чуть видные стада и казались насекомыми. Мы различили и пастуха,
быть может русского, некогда взятого в плен и состаревшегося в неволе. Мы
встретили еще курганы, еще развалины. Два-три надгробных памятника стояло на
краю дороги. Там, по обычаю черкесов, похоронены их наездники. Татарская
надпись, изображение шашки, танга, иссеченные на камне, оставлены хищным
внукам в память хищного предка.
Черкесы нас ненавидят. Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их
разорены, целые племена уничтожены. Они час от часу далее углубляются в горы
и оттуда направляют свои набеги. Дружба мирных черкесов ненадежна: они
всегда готовы помочь буйным своим единоплеменникам. Дух дикого их рыцарства
заметно упал. Они редко нападают в равном числе на казаков, никогда на
пехоту и бегут, завидя пушку. Зато никогда не пропустят случая напасть на
слабый отряд или на беззащитного. Здешняя сторона полна молвой о их
злодействах. Почти нет никакого способа их усмирить, пока их не обезоружат,
как обезоружили крымских татар, что чрезвычайно трудно исполнить, по причине
господствующих между ими наследственных распрей и мщения крови. Кинжал и
шашка суть члены их тела, и младенец начинает владеть ими прежде, нежели
лепетать. У них убийство - простое телодвижение. Пленников они сохраняют в
надежде на выкуп, но обходятся с ними с ужасным бесчеловечием, заставляют
работать сверх сил, кормят сырым тестом, бьют, когда вздумается, и
приставляют к ним для стражи своих мальчишек, которые за одно слово вправе
их изрубить своими детскими шашками. Недавно поймали мирного черкеса,
выстрелившего в солдата. Он оправдывался тем, что ружье его слишком долго
было заряжено. Что делать с таковым народом? Должно, однако ж, надеяться,
что приобретение восточного края Черного моря, отрезав черкесов от торговли
с Турцией, принудит их с нами сблизиться. Влияние роскоши может
благоприятствовать их укрощению: самовар был бы важным нововведением. Есть
средство более сильное, более нравственное, более сообразное с просвещением
нашего века: проповедание Евангелия. Черкесы очень недавно приняли
магометанскую веру. Они были увлечены деятельным фанатизмом апостолов
Корана, между коими отличался Мансур, человек необыкновенный, долго
возмущавший Кавказ противу русского владычества, наконец схваченный нами и
умерший в Соловецком монастыре. Кавказ ожидает христианских миссионеров. Но
легче для нашей лености в замену слова живого выливать мертвые буквы и
посылать немые книги людям, не знающим грамоты.
Мы достигли Владикавказа, прежнего Капкая, преддверия гор. Он окружен
осетинскими аулами. Я посетил один из них и попал на похороны. Около сакли
толпился народ. На дворе стояла арба, запряженная двумя волами. Родственники
и друзья умершего съезжались со всех сторон и с громким плачем шли в саклю,
ударяя себя кулаками в лоб. Женщины стояли смирно. Мертвеца вынесли на
бурке...
...like a warrior taking his rest
With his martial cloak around him; {5}
положили его на арбу. Один из гостей взял ружье покойника, сдул с полки
порох и положил его подле тела. Волы тронулись. Гости поехали следом. Тело
должно было быть похоронено в горах, верстах в тридцати от аула. К
сожалению, никто не мог объяснить мне сих обрядов.
Осетинцы самое бедное племя из народов, обитающих на Кавказе; женщины
их прекрасны и, как слышно, очень благосклонны к путешественникам. У ворот
крепости встретил я жену и дочь заключенного осетинца. Они несли ему обед.
Обе казались спокойны и смелы; однако ж при моем приближении обе потупили
голову и закрылись своими изодранными чадрами. В крепости видел я черкесских
аманатов, резвых и красивых мальчиков. Они поминутно проказят и бегают из
крепости. Их держат в жалком положении. Они ходят в лохмотьях, полунагие и в
отвратительной нечистоте. На иных видел я деревянные колодки. Вероятно, что
аманаты, выпущенные на волю, не жалеют о своем пребывании во Владикавказе.
Пушка оставила нас. Мы отправились с пехотой и казаками. Кавказ нас
принял в свое святилище. Мы услышали глухой шум и увидели Терек,
разливающийся по разным направлениям. Мы поехали по его левому берегу.
Шумные волны его приводят в движение колеса низеньких осетинских мельниц,
похожих на собачьи конуры. Чем далее углублялись мы в горы, тем уже
становилось ущелие. Стесненный Терек с ревом бросает свои мутные волны чрез
утесы, преграждающие ему путь. Ущелие извивается вдоль его течения. Каменные
подошвы гор обточены его волнами. Я шел пешком и поминутно останавливался,
пораженный мрачною прелестию природы. Погода была пасмурная; облака тяжело
тянулись около черных вершин. Граф Пушкин и Шернваль, смотря на Терек,
воспоминали Иматру и отдавали преимущество реке на Севере гремящей. Но я ни
с чем не мог сравнить мне предстоявшего зрелища.
Не доходя до Ларса, я отстал от конвоя, засмотревшись на огромные
скалы, между коими хлещет Терек с яростию неизъяснимой. Вдруг бежит ко мне
солдат, крича мне издали: "Не останавливайтесь, ваше благородие, убьют!" Это
предостережение с непривычки показалось мне чрезвычайно странным. Дело в
том, что осетинские разбойники, безопасные в этом узком месте, стреляют
через Терек в путешественников. Накануне нашего перехода они напали таким
образом на генерала Бековича, проскакавшего сквозь их выстрелы. На скале
видны развалины какого-то замка: они облеплены саклями мирных осетинцев, как
будто гнездами ласточек.
В Ларсе остановились мы ночевать. Тут нашли мы путешественника
француза, который напугал нас предстоящею дорогой. Он советовал нам бросить
экипажи в Коби и ехать верхом. С ним выпили мы в первый раз кахетинского
вина из вонючего бурдюка, воспоминая пирования Илиады: И в козиих мехах
вино, отраду нашу!
Здесь нашел я измаранный список "Кавказского пленника" и, признаюсь,
перечел его с большим удовольствием. Все это слабо, молодо, неполно; но
многое угадано и выражено верно.
На другой день поутру отправились мы далее. Турецкие пленники
разработывали дорогу. Они жаловались на пищу, им выдаваемую. Они никак не
могли привыкнуть к русскому черному хлебу. Это напомнило мне слова моего
приятеля Шереметева по возвращении его из Парижа: "Худо, брат, жить в
Париже: есть нечего; черного хлеба не допросишься!"
В семи верстах от Ларса находится Дариальский пост. Ущелье носит то же
имя. Скалы с обеих сторон стоят параллельными стенами. Здесь так узко, так
узко, пишет один путешественник, что не только видишь, но, кажется,
чувствуешь тесноту. Клочок неба как лента синеет над вашей головою. Ручьи,
падающие с горной высоты мелкими и разбрызганными струями, напоминали мне
похищение Ганимеда, странную картину Рембрандта. К тому же и ущелье освещено
совершенно в его вкусе. В иных местах Терек подмывает самую подошву скал, и
на дороге, в виде плотины, навалены каменья. Недалеко от поста мостик смело
переброшен через реку. На нем стоишь как на мельнице. Мостик весь так и
трясется, а Терек шумит, как колеса, движущие жернов. Против Дариала на
крутой скале видны развалины крепости. Предание гласит, что в ней скрывалась
какая-то царица Дария, давшая имя свое ущелию: сказка. Дариал на древнем
персидском языке значит ворота. По свидетельству Плиния, Кавказские врата,
ошибочно называемые Каспийскими, находились здесь. Ущелье замкнуто было
настоящими воротами, деревянными, окованными железом. Под ними, пишет
Плиний, течет река Дириодорис. Тут была воздвигнута и крепость для удержания
набегов диких племен; и проч. Смотрите путешествие графа И. Потоцкого, коего
ученые изыскания столь же занимательны, как и испанские романы.
Из Дариала отправились мы к Казбеку. Мы увидели Троицкие ворота (арка,
образованная в скале взрывом пороха) - под ними шла некогда дорога, а ныне
протекает Терек, часто меняющий свое русло.
Недалеко от селения Казбек переехали мы через Бешеную балку, овраг, во
время сильных дождей превращающийся в яростный поток. В это время он был
совершенно сух и громок одним своим именем.
Деревня Казбек находится у подошвы горы Казбек и принадлежит князю
Казбеку. Князь, мужчина лет сорока пяти, ростом выше преображенского
флигельмана. Мы нашли его в духане (так называются грузинские харчевни,
которые гораздо беднее и не чище русских). В дверях лежал пузастый бурдюк
(воловий мех), растопыря свои четыре ноги. Великан тянул из него чихирь и
сделал мне несколько вопросов, на которые отвечал я с почтением, подобаемым
его званию и росту. Мы расстались большими приятелями.
Скоро притупляются впечатления. Едва прошли сутки, и уже рев Терека и
его безобразные водопады, уже утесы и пропасти не привлекали моего внимания.
Нетерпение доехать до Тифлиса исключительно овладело мною. Я столь же
равнодушно ехал мимо Казбека, как некогда плыл мимо Чатырдага. Правда и то,
что дождливая и туманная погода мешала мне видеть его снеговую груду, по
выражению поэта, подпирающую небосклон.
Ждали персидского принца. В некотором расстоянии от Казбека попались
нам навстречу несколько колясок и затруднили узкую дорогу. Покамест экипажи
разъезжались, конвойный офицер объявил нам, что он провожает придворного
персидского поэта и, по моему желанию, представил меня Фазил-Хану. Я, с
помощию переводчика, начал было высокопарное восточное приветствие; но как
же мне стало совестно, когда Фазил-Хан отвечал на мою неуместную
затейливость простою, умной учтивостию порядочного человека! "Он надеялся
увидеть меня в Петербурге; он жалел, что знакомство наше будет
непродолжительно и проч.". Со стыдом принужден я был оставить важно-шутливый
тон и съехать на обыкновенные европейские фразы. Вот урок нашей русской
насмешливости. Вперед не стану судить о человеке по его бараньей папахе1 и
по крашеным ногтям.
Пост Коби находится у самой подошвы Крестовой горы, чрез которую
предстоял нам переход. Мы тут остановились ночевать и стали думать, каким бы
образом совершить сей ужасный подвиг: сесть ли, бросив экипажи, на казачьих
лошадей, или послать за осетинскими волами? На всякий случай я написал от
имени всего нашего каравана официальную просьбу к г. Чиляеву,
начальствующему в здешней стороне, и мы легли спать в ожидании подвод.
На другой день около 12-ти часов услышали мы шум, крики и увидели
зрелище необыкновенное: 18 пар тощих малорослых волов, понуждаемых толпою
полунагих осетинцев, насилу тащили легкую венскую коляску приятеля моего О
***. Это зрелище тотчас рассеяло все мои сомнения. Я решился отправить мою
тяжелую петербургскую коляску обратно во Владикавказ и ехать верхом до
Тифлиса. Граф Пушкин не хотел следовать моему примеру. Он предпочел впрячь
целое стадо волов в свою бричку, нагруженную запасами всякого рода, и с
торжеством переехать через снеговой хребет. Мы расстались, и я поехал с
полковником Огаревым, осматривающим здешние дороги.
Дорога шла через обвал, обрушившийся в конце июня 1827 года. Таковые
случаи бывают обыкновенно каждые семь лет. Огромная глыба, свалясь, засыпала
ущелие на целую версту и запрудила Терек. Часовые, стоявшие ниже, слышали
ужасный грохот и увидели, что река быстро мелела и в четверть часа совсем
утихла и истощилась. Терек прорылся сквозь обвал не прежде, как через два
часа. То-то был он ужасен!
Мы круто подымались выше и выше. Лошади наши вязли в рыхлом снегу, под
которым шумели ручьи. Я с удивлением смотрел на дорогу и не понимал
возможности езды на колесах.
В это время услышал я глухой грохот. "Это обвал", - сказал мне г.
Огарев. Я оглянулся и увидел в стороне груду снега, которая осыпалась и
медленно съезжала с крутизны. Малые обвалы здесь не редки. В прошлом году
русский извозчик ехал по Крестовой горе. Обвал оборвался; страшная глыба
свалилась на его повозку, поглотила телегу, лошадь и мужика, перевалилась
через дорогу и покатилась в пропасть с своею добычею. Мы достигли самой
вершины горы. Здесь поставлен гранитный крест, старый памятник, обновленный
Ермоловым.
Здесь путешественники обыкновенно выходят из экипажей и идут пешком.
Недавно проезжал какой-то иностранный консул: он так был слаб, что велел
завязать себе глаза; его вели под руки, и когда сняли с него повязку, тогда
он стал на колени, благодарил бога и проч., что очень изумило проводников.
Мгновенный переход от грозного Кавказа к миловидной Грузии
восхитителен. Воздух юга вдруг начинает повевать на путешественника. С
высоты Гут-горы открывается Кайшаурская долина с ее обитаемыми скалами, с ее
садами, с ее светлой Арагвой, извивающейся, как серебряная лента, - и все
это в уменьшенном виде, на дне трехверстной пропасти, по которой идет
опасная дорога.
Мы спускались в долину. Молодой месяц показался на ясном небе. Вечерний
воздух был тих и тепел. Я ночевал на берегу Арагвы, в доме г. Чиляева. На
другой день я расстался с любезным хозяином и отправился далее.
Здесь начинается Грузия. Светлые долины, орошаемые веселой Арагвою,
сменили мрачные ущелия и грозный Терек. Вместо голых утесов я видел около
себя зеленые горы и плодоносные деревья. Водопроводы доказывали присутствие
образованности. Один из них поразил меня совершенством оптического обмана:
вода, кажется, имеет свое течение по горе снизу вверх.
В Пайсанауре остановился я для перемены лошадей. Тут я встретил
русского офицера, провожающего персидского принца. Вскоре услышал я звук
колокольчиков, и целый ряд катаров (мулов), привязанных один к другому и
навьюченных по-азиатски, потянулся по дороге. Я пошел пешком, не дождавшись
лошадей; и в полверсте от Ананура, на повороте дороги, встретил
Хозрев-Мирзу. Экипажи его стояли. Сам он выглянул из своей коляски и кивнул
мне головою. Несколько часов после нашей встречи на принца напали горцы.
Услыша свист пуль, Хозрев выскочил из своей коляски, сел на лошадь и
ускакал. Русские, бывшие при нем, удивились его смелости. Дело в том, что
молодой азиатец, не привыкший к коляске, видел в ней скорее западню, нежели
убежище.
Я дошел до Ананура, не чувствуя усталости. Лошади мои не приходили. Мне
сказали, что до города Душета оставалось не более как десять верст, и я
опять отправился пешком. Но я не знал, что дорога шла в гору. Эти десять
верст стоили добрых двадцати.
Наступил вечер; я шел вперед, подымаясь все выше и выше. С дороги
сбиться было невозможно; но местами глинистая грязь, образуемая источниками,
доходила мне до колена. Я совершенно утомился. Темнота увеличилась. Я слышал
вой и лай собак и радовался, воображая, что город недалеко. Но ошибался:
лаяли собаки грузинских пастухов, а выли шакалы, звери в той стороне
обыкновенные. Я проклинал свое нетерпение, но делать было нечего. Наконец
увидел я огни и около полуночи очутился у домов, осененных деревьями. Первый
встречный вызвался провести меня к городничему и потребовал за то с меня
абаз.
Появление мое у городничего, старого офицера из грузин, произвело
большое действие. Я требовал, во-первых, комнаты, где бы мог раздеться,
во-вторых, - стакана вина, в-третьих, - абаза для моего провожатого.
Городничий не знал, как меня принять, и посматривал на меня с недоумением.
Видя, что он не торопится исполнить мои просьбы, я стал перед ним
раздеваться, прося извинения de la liberte grande {6}. К счастию, нашел я в
кармане подорожную, доказывавшую, что я мирный путешественник, а не
Ринальдо-Ринальдини. Благословенная хартия возымела тотчас свое действие:
комната была мне отведена, стакан вина принесен и абаз выдан моему
проводнику с отеческим выговором за его корыстолюбие, оскорбительное для
грузинского гостеприимства. Я бросился на диван, надеясь после моего подвига
заснуть богатырским сном: не тут-то было! блохи, которые гораздо опаснее
шакалов, напали на меня и во всю ночь не дали мне покою. Поутру явился ко
мне мой человек и объявил, что граф Пушкин благополучно переправился на
волах через снеговые горы и прибыл в Душет. Нужно было мне торопиться! Граф
Пушкин и Шернваль посетили меня и предложили опять отправиться вместе в
дорогу. Я оставил Душет с приятной мыслию, что ночую в Тифлисе.
Дорога была так же приятна и живописна, хотя редко видели мы следы
народонаселения. В нескольких верстах от Гарцискала мы переправились через
Куру по древнему мосту, памятнику римских походов, и крупной рысью, а иногда
и вскачь, поехали к Тифлису, в котором неприметным образом и очутились часу
в одиннадцатом вечера.
 Вернуться на предыдущую страницу Вернуться на предыдущую страницу
|