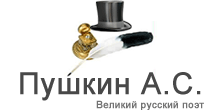|
|
Источник:
История села Горюхина - А.С.Пушкин
Если бог пошлет мне читателей, то, может быть, для них будет любопытно
узнать, каким образом решился я написать Историю села Горюхина. Для того
должен я войти в некоторые предварительные подробности.
Я родился от честных и благородных родителей в селе Горюхине 1801 года
апреля 1 числа и первоначальное образование получил от нашего дьячка.
Сему-то почтенному мужу обязан я впоследствии развившейся во мне охотою к
чтению и вообще к занятиям литературным. Успехи мои хотя были медленны, но
благонадежны, и6o на десятом году от роду я знал уже почти все то, что
поныне осталось у меня в памяти, от природы слабой и которую по причине
столь же слабого здоровья не дозволяли мне излишне отягощать.
Звание литератора всегда казалось для меня самым завидным. Родители
мои, люди почтенные, но простые и воспитанные по-старинному, никогда ничего
не читывали, и во всем доме, кроме Азбуки, купленной для меня, календарей и
Новейшего письмовника, никаких книг не находилось. Чтение письмовника долго
было любимым моим упражнением. Я знал его наизусть и, несмотря на то, каждый
день находил в нем новые незамеченные красоты. После генерала Племянникова,
у которого батюшка был некогда адъютантом, Курганов казался мне величайшим
человеком. Я расспрашивал о нем у всех, и, к сожалению, никто не мог
удовлетворить моему любопытству, никто не знал его лично, на все мои вопросы
отвечали только, что Курганов сочинил Новейший письмовник, что твердо знал я
и прежде.
Мрак неизвестности окружал его как некоего древнего полубога; иногда я
даже сомневался в истине его существования. Имя его казалось мне вымышленным
и предание о нем пустою мифою, ожидавшею изыскания нового Нибура. Однако же
он все преследовал мое воображение, я старался придать какой-нибудь образ
сему таинственному лицу, и наконец решил, что должен он был походить на
земского заседателя Корючкина, маленького старичка с красным носом и
сверкающими глазами.
В 1812 году повезли меня в Москву и отдали в пансион Карла Ивановича
Мейера - где пробыл я не более трех месяцев, ибо нас распустили перед
вступлением неприятеля - я возвратился в деревню. По изгнании двухнадесяти
языков хотели меня снова везти в Москву посмотреть, не возвратился ли Карл
Иванович на прежнее пепелище или, в противном случае, отдать меня в другое
училище, но я упросил матушку оставить меня в деревне, ибо здоровье мое не
позволяло мне вставать с постели в семь часов, как обыкновенно заведено во
всех пансионах. Таким образом достиг я шестнадцатилетнего возраста,
оставаясь при первоначальном моем образовании и играя в лапту с моими
потешными, единственная наука, в коей приобрел я достаточное познание во
время пребывания моего в пансионе.
В сие время определился я юнкером в** пехотный полк, в коем и находился
до прошлого 18 ** года. Пребывание мое в полку оставило мне мало приятных
впечатлений, кроме производства в офицеры и выигрыша 245 рублей в то время,
как у меня в кармане всего оставалося рубль 6 гривен. Смерть дражайших моих
родителей принудила меня подать в отставку и приехать в мою вотчину.
Сия эпоха жизни моей столь для меня важна, что я намерен о ней
распространиться, заранее прося извинения у благосклонного читателя, если во
зло употреблю снисходительное его внимание.
День был осенний и пасмурный. Прибыв на станцию, с которой должно было
мне своротить на Горюхино, нанял я вольных и поехал проселочною дорогой.
Хотя я нрава от природы тихого, но нетерпение вновь увидеть места, где
провел я лучшие свои годы, так сильно овладело мной, что я поминутно погонял
моего ямщика, то обещая ему на водку, то угрожая побоями, и как удобнее было
мне толкать его в спину, нежели вынимать и развязывать кошелек, то,
признаюсь, раза три и ударил его, что отроду со мною не случалось, ибо
сословие ямщиков, сам не знаю почему, для меня в особенности любезно. Ямщик
погонял свою тройку, но мне казалось, что он, по обыкновению ямскому,
уговаривая лошадей и размахивая кнутом, все-таки затягивал гужи. Наконец
завидел Горюхинскую рощу; и через десять минут въехал на барский двор.
Сердце мое сильно билось - я смотрел вокруг себя с волнением неописанным.
Восемь лет не видал я Горюхина. Березки, которые при мне посажены были около
забора, выросли и стали теперь высокими, ветвистыми деревьями. Двор, бывший
некогда украшен тремя правильными цветниками, меж которых шла широкая
дорога, усыпанная песком, теперь обращен был в некошеный луг, на котором
паслась бурая корова. Бричка моя остановилась у переднего крыльца. Человек
мой пошел было отворить двери, но они были заколочены, хотя ставни были
открыты и дом казался обитаемым. Баба вышла из людской избы и спросила, кого
мне надобно. Узнав, что барин приехал, она снова побежала в избу, и вскоре
дворня меня окружила. Я был тронут до глубины сердца, увидя знакомые и
незнакомые лица - и дружески со всеми ими целуясь: мои потешные мальчишки
были уже мужиками, а сидевшие некогда на полу для посылок девчонки замужними
бабами. Мужчины плакали. Женщинам говорил я без церемонии: "Как ты
постарела", - и мне отвечали с чувством: "Как вы-то, батюшка, подурнели".
Повели меня на заднее крыльцо, навстречу мне вышла моя кормилица и обняла
меня с плачем и рыданием, как многострадального Одиссея. Побежали топить
баню. Повар, ныне в бездействии отрастивший себе бороду, вызвался
приготовить мне обед или ужин - ибо уже смеркалось. Тотчас очистили мне
комнаты, в коих жила кормилица с девушками покойной матушки, и я очутился в
смиренной отеческой обители и заснул в той самой комнате, в которой за 23
года тому родился.
Около трех недель прошло для меня в хлопотах всякого роду - я возился с
заседателями, предводителями и всевозможными губернскими чиновниками.
Наконец принял я наследство и был введен во владение отчиной; я успокоился,
но скоро скука бездействия стала меня мучить. Я не был еще знаком с добрым и
почтенным соседом моим **. Занятия хозяйственные были вовсе для меня чужды.
Разговоры кормилицы моей, произведенной мною в ключницы и управительницы,
состояли счетом из пятнадцати домашних анекдотов, весьма для меня
любопытных, но рассказываемых ею всегда одинаково, так что она сделалась для
меня другим новейшим письмовником, в котором я знал, на какой странице какую
найду строчку. Настоящий же заслуженный письмовник был мною найден в
кладовой, между всякой рухлядью, в жалком состоянии. Я вынес его на свет и
принялся было за него, но Курганов потерял для меня прежнюю свою прелесть, я
прочел его еще раз и больше уже не открывал.
В сей крайности пришло мне на мысль, не попробовать ли самому
что-нибудь сочинить? Благосклонный читатель знает уже, что воспитан я был на
медные деньги и что не имел я случая приобрести сам собою то, что было раз
упущено, до шестнадцати лет играя с дворовыми мальчишками, а потом переходя
из губернии в губернию, из квартиры на квартиру, провождая время с жидами да
с маркитантами, играя на ободранных биллиардах и маршируя в грязи.
К тому же быть сочинителем казалось мне так мудрено, так недосягаемо
нам непосвященным, что мысль взяться за перо сначала испугала меня. Смел ли
я надеяться попасть когда-нибудь в число писателей, когда уже пламенное
желание мое встретиться с одним из них никогда не было исполнено? Но это
напоминает мне случай, который намерен я рассказать в доказательство
всегдашней страсти моей к отечественной словесности.
В 1820 году еще юнкером случилось мне быть по казенной надобности в
Петербурге. Я прожил в нем неделю и, несмотря на то, что не было там у меня
ни одного знакомого человека, провел время чрезвычайно весело: каждый день
тихонько ходил я в театр, в галерею четвертого яруса. Всех актеров узнал по
имени и страстно влюбился в **, игравшую с большим искусством в одно
воскресенье роль Амалии в драме "Ненависть к людям и раскаяние". Утром,
возвращаясь из Главного штаба, заходил я обыкновенно в низенькую конфетную
лавку и за чашкой шоколаду читал литературные журналы. Однажды сидел я
углубленный в критическую статью "Благонамеренного"; некто в гороховой
шинели ко мне подошел и из-под моей книжки тихонько потянул листок
"Гамбургской газеты". Я так был занят, что не поднял и глаз. Незнакомый
спросил себе бифштексу и сел передо мною; я все читал, не обращая на него
внимания; он между тем позавтракал, сердито побранил мальчика за
неисправность, выпил полбутылки вина и вышел. Двое молодых людей тут же
завтракали. "Знаешь ли, кто это был? - сказал один другому: - Это Б.,
сочинитель". - "Сочинитель!" - воскликнул я невольно - и, оставя журнал
недочитанным и чашку недопитою, побежал расплачиваться и, не дождавшися
сдачи, выбежал на улицу. Смотря во все стороны, увидел я издали гороховую
шинель и пустился за нею по Невскому проспекту - только что не бегом. Сделав
несколько шагов, чувствую вдруг, что меня останавливают - оглядываюсь,
гвардейский офицер заметил мне, что-де мне следовало б не толкнуть его с
тротуара, но скорее остановиться и вытянуться. После сего выговора я стал
осторожнее; на беду мою поминутно встречались мне офицеры, я поминутно
останавливался, а сочинитель все уходил от меня вперед. Отроду моя
солдатская шинель не была мне столь тягостною, - отроду эполеты не казались
мне столь завидными; наконец у самого Аничкина моста догнал я гороховую
шинель. "Позвольте спросить, - сказал я, приставя ко лбу руку, - вы г. Б.,
коего прекрасные статьи имел я счастие читать в "Соревнователе просвещения?"
- "Никак нет-с, - отвечал он мне, - я не сочинитель, а стряпчий, но** мне
очень знаком; четверть часа тому я встретил его у Полицейского мосту". Таким
образом уважение мое к русской литературе стоило мне тридцати копеек
потерянной сдачи, выговора по службе и чуть-чуть не ареста - а все даром.
Несмотря на все возражения моего рассудка, дерзкая мысль сделаться
писателем поминутно приходила мне в голову. Наконец, не будучи более в
состоянии противиться влечению природы, я сшил себе толстую тетрадь с
твердым намерением наполнить ее чем бы то ни было. Все роды поэзии (ибо о
смиренной прозе я еще и не помышлял) были мною разобраны, оценены, и я
непременно решился на эпическую поэму, почерпнутую из отечественной истории.
Недолго искал я себе героя. Я выбрал Рюрика - и принялся за работу.
К стихам приобрел я некоторый навык, переписывая тетрадки, ходившие по
рукам между нашими офицерами, именно: "Опасного соседа", "Критику на
Московский бульвар", "на Пресненские пруды" и т.п. Несмотря на то поэма моя
подвигалась медленно, и я бросил ее на третьем стихе. Я думал, что эпический
род не мой род, и начал трагедию Рюрик. Трагедия не пошла. Я попробовал
обратить ее в балладу - но и баллада как-то мне не давалась. Наконец
вдохновение озарило меня, я начал и благополучно окончил надпись к портрету
Рюрика.
Несмотря на то, что надпись моя была не вовсе недостойна внимания,
особенно как первое произведение молодого стихотворца, однако ж я
почувствовал, что я не рожден поэтом, и довольствовался сим первым опытом.
Но творческие мои попытки так привязали меня к литературным занятиям, что
уже не мог я расстаться с тетрадью и чернильницей. Я хотел низойти к прозе.
На первый случай, не желая заняться предварительным изучением, расположением
плана, скреплением частей и т. п., я вознамерился писать отдельные мысли,
без связи, без всякого порядка, в том виде, как они мне станут
представляться. К несчастию, мысли не приходили мне в голову - и в целые два
дня надумал я только следующее замечание:
Человек, не повинующийся законам рассудка и привыкший следовать
внушениям страстей, часто заблуждается и подвергает себя позднему раскаянию.
Мысль конечно справедливая, но уже не новая. Оставя мысли, принялся я за
повести, но, не умея с непривычки расположить вымышленное происшествие, я
избрал замечательные анекдоты, некогда мною слышанные от разных особ, и
старался украсить истину живостию рассказа, а иногда и цветами собственного
воображения. Составляя сии повести, мало-помалу образовал я свой слог и
приучился выражаться правильно, приятно и свободно. Но скоро запас мой
истощился, и я стал опять искать предмета для литературной моей
деятельности.
Мысль оставить мелочные и сомнительные анекдоты для повествования
истинных и великих происшествий давно тревожила мое воображение. Быть
судиею, наблюдателем и пророком веков и народов казалось мне высшею
степенью, доступной для писателя. Но какую историю мог я написать с моей
жалкой образованностию, где бы не предупредили меня многоученые,
добросовестные мужи? Какой род истории не истощен уже ими? Стану ль писать
историю всемирную - но разве не существует уже бессмертный труд аббата
Милота? Обращусь ли к истории отечественной? что скажу я после Татищева,
Болтина и Голикова? и мне ли рыться в летописях и добираться до сокровенного
смысла обветшалого языка, когда не мог я выучиться славянским цифрам? Я
думал об истории меньшего объема, например об истории губернского нашего
города; но и тут сколько препятствий, для меня неодолимых! Поездка в город,
визиты к губернатору и к архиерею, просьба о допущении в архивы и
монастырские кладовые и проч. История уездного нашего города была бы для
меня удобнее, но она не была занимательна ни для философа, ни для
прагматика, и представляла мало пищи красноречию. *** был переименован в
город в 17** году, и единственное замечательное происшествие, сохранившееся
в его летописях, есть ужасный пожар, случившийся десять лет тому назад и
истребивший базар и присутственные места.
Нечаянный случай разрешил мои недоумения. Баба, развешивая белье на
чердаке, нашла старую корзину, наполненную щепками, сором и книгами. Весь
дом знал охоту мою к чтению. Ключница моя, в то самое время как я, сидя за
моей тетрадью, грыз перо и думал об опыте сельских проповедей, с торжеством
втащила корзинку в мою комнату, радостно восклицая: "книги! книги!" -
"Книги!" - повторил я с восторгом и бросился к корзинке. В самом деле, я
увидел целую груду книг в зеленом и синем бумажном переплете - это было
собрание старых календарей. Сие открытие охладило мой восторг, но все я был
рад нечаянной находке, все же это были книги, и я щедро наградил усердие
прачки полтиною серебром. Оставшись наедине, я стал рассматривать свои
календари, и скоро мое внимание было сильно ими привлечено. Они составляли
непрерывную цепь годов от 1744 до 1799, то есть ровно 55 лет. Синие листы
бумаги, обыкновенно вплетаемые в календари, были все исписаны старинным
почерком. Брося взор на сии строки, с изумлением увидел я, что они заключали
не только замечания о погоде и хозяйственные счеты, но также и известия
краткие исторические касательно села Горюхина. Немедленно занялся я разбором
драгоценных сих записок и вскоре нашел, что они представляли полную историю
моей отчины в течение почти целого столетия в самом строгом хронологическом
порядке. Сверх сего заключали они неистощимый запас экономических,
статистических, метеорологических и других ученых наблюдений. С тех пор
изучение сих записок заняло меня исключительно, ибо увидел я возможность
извлечь из них повествование стройное, любопытное и поучительное. Ознакомясь
довольно с драгоценными сими памятниками, я стал искать новых источников
истории села Горюхина. И вскоре обилие оных изумило меня. Посвятив целые
шесть месяцев на предварительное изучение, наконец приступил я к давно
желанному труду и с помощию божиею совершил оный сего ноября 3 дня 1827-го
года.
Ныне, как некоторый мне подобный историк, коего имени я не запомню,
оконча свой трудный подвиг, кладу перо и с грустию иду в мой сад размышлять
о том, что мною совершено. Кажется и мне, что, написав Историю Горюхина, я
уже не нужен миру, что долг мой исполнен и что пора мне опочить!
Здесь прилагаю список источников, послуживших мне к составлению Истории
Горюхина:
1. Собрание старинных календарей. 54 части. Первые 20 частей исписано
старинным почерком с титлами. Летопись сия сочинена прадедом моим Андреем
Степановичем Белкиным. Она отличается ясностию и краткостию слога, например:
4 мая. Снег. Тришка за грубость бит. 6 - корова бурая пала. Сенька за
пьянство бит. 8 - погода ясная. 9 - дождь и снег. Тришка бит по погоде. 11 -
погода ясная. Пороша. Затравил 3 зайцев, и тому подобное, безо всяких
размышлений... Остальные 35 частей писаны разными почерками, большею частию
так называемым лавочничьим с титлами и без титлов, вообще плодовито,
несвязно и без соблюдения правописания. Кой-где заметна женская рука. В сие
отделение входят записки деда моего Ивана Андреевича Белкина и бабки моей, а
его супруги, Евпраксии Алексеевны, также и записки приказчика Гарбовицкого.
2. Летопись горюхинского дьячка. Сия любопытная рукопись отыскана мною
у моего попа, женатого на дочери летописца. Первые листы были выдраны и
употреблены детьми священника на так называемые змеи. Один из таковых упал
посреди моего двора. Я поднял его и хотел было возвратить детям, как
заметил, что он был исписан. С первых строк увидел я, что змей составлен был
из летописи, и к счастию успел спасти остальное. Летопись сия, приобретенная
мною за четверть овса, отличается глубокомыслием и велеречием
необыкновенным.
3. Изустные предания. Я не пренебрегал никакими известиями. Но в
особенности обязан Аграфене Трифоновой, матери Авдея старосты, бывшей
(говорят) любовницею приказчика Гарбовицкого.
4. Ревижские сказки, с замечаниями прежних старост (счетные и расходные
книги) касательно нравственности и состояния крестьян.
Страна, по имени столицы своей Горюхиным называемая, занимает на земном
шаре более 240 десятин. Число жителей простирается до 63 душ. К северу
граничит она с деревнями Дериуховым и Перкуховом, коего обитатели бедны,
тощи и малорослы, а гордые владельцы преданы воинственному упражнению
заячьей охоты. К югу река Сивка отделяет ее от владений карачевских вольных
хлебопашцев, соседей беспокойных, известных буйной жестокостию нравов. К
западу облегают ее цветущие поля захарьинские, благоденствующие под властию
мудрых и просвещенных помещиков. К востоку примыкает она к диким,
необитаемым местам, к непроходимому болоту, где произрастает одна клюква,
где раздается лишь однообразное квакание лягушек и где суеверное предание
предполагает быть обиталищу некоего беса.
NВ. Сие болото и называется Бесовским. Рассказывают, будто одна
полуумная пастушка стерегла стадо свиней недалече от сего уединенного места.
Она сделалась беременною и никак не могла удовлетворительно объяснить сего
случая. Глас народный обвинил болотного беса; но сия сказка недостойна
внимания историка, и после Нибура непростительно было бы тому верить.
Издревле Горюхино славилось своим плодородием и благорастворенным
климатом. Рожь, овес, ячмень и гречиха родятся на тучных его нивах.
Березовая роща и еловый лес снабжают обитателей деревами и валежником на
построение и отопку жилищ. Нет недостатка в орехах, клюкве, бруснике и
чернике. Грибы произрастают в необыкновенном количестве; сжаренные в
сметане, представляют приятную, хотя и нездоровую пищу. Пруд наполнен
карасями, а в реке Сивке водятся щуки и налимы.
Обитатели Горюхина большей частию росту середнего, сложения крепкого и
мужественного, глаза их серы, волосы русые или рыжие. Женщины отличаются
носами, поднятыми несколько вверх, выпуклыми скулами и дородностию. NВ. Баба
здоровенная, сие выражение встречается часто в примечаниях старосты к
Ревижским сказкам. Мужчины добронравны, трудолюбивы (особенно на своей
пашне), храбры, воинственны: многие из них ходят одни на медведя и славятся
в околотке кулачными бойцами; все вообще склонны к чувственному наслаждению
пиянства. Женщины сверх домашних работ разделяют с мужчинами большую часть
их трудов; и не уступят им в отважности, редкая из них боится старосты. Они
составляют мощную общественную стражу, неусыпно бодрствующую на барском
дворе, и называются копейщицами (от словенского слова копье). Главная
обязанность копейщиц как можно чаще бить камнем в чугунную доску и тем
устрашать злоумышление. Они столь целомудрены, как и прекрасны; на покушения
дерзновенного отвечают сурово и выразительно.
Жители Горюхина издавна производят обильный торг лыками, лукошками и
лаптями. Сему способствует река Сивка, через которую весною переправляются
они на челноках, подобно древним скандинавам, а прочие времена года
переходят вброд, предварительно засучив портки до колен.
Язык горюхинский есть решительно отрасль славянского, но столь же
разнится от него, как и русский. Он исполнен сокращениями и усечениями -
некоторые буквы вовсе в нем уничтожены или заменены другими. Однако ж
великороссиянину легко понять горюхинца, и обратно.
Мужчины женивались обыкновенно на тринадцатом году на девицах
двадцатилетних. Жены били своих мужей в течение четырех или пяти лет. После
чего мужья уже начинали бить жен; и таким образом оба пола имели свое время
власти, и равновесие было соблюдено.
Обряд похорон происходил следующим образом. В самый день смерти
покойника относили на кладбище - дабы мертвый в избе не занимал напрасно
лишнего места. От сего случалось, что к неописанной радости родственников
мертвец чихал или зевал в ту самую минуту, как его выносили в гробе за
околицу. Жены оплакивали мужьев, воя и приговаривая: "Свет-моя удалая
головушка! на кого ты меня покинул? чем-то мне тебя поминати?" При
возвращении с кладбища начиналася тризна в честь покойника, и родственники и
друзья бывали пьяны два-три дня или даже целую неделю, смотря по усердию и
привязанности к его памяти. Сии древние обряды сохранилися и поныне.
Одежда горюхинцев состояла из рубахи, надеваемой сверх порток, что есть
отличительный признак их славянского происхождения. Зимою носили они
овчинный тулуп, но более для красы, нежели из настоящей нужды, ибо тулуп
обыкновенно накидывали они на одно плечо и сбрасывали при малейшем труде,
требующем движения.
Науки, искусства и поэзия издревле находились в Горюхине в довольно
цветущем состоянии. Сверх священника и церковных причетников, всегда
водились в нем грамотеи. Летописи упоминают о земском Терентии, жившем около
1767 году, умевшем писать не только правой, но и левою рукою. Сей
необыкновенный человек прославился в околотке сочинением всякого роду писем,
челобитьев, партикулярных пашпортов и т. п. Неоднократно пострадав за свое
искусство, услужливость и участие в разных замечательных происшествиях, он
умер уже в глубокой старости, в то самое время, как приучался писать правою
ногою, ибо почерка обеих рук его были уже слишком известны. Он играет, как
читатель увидит ниже, важную роль и в истории Горюхина.
Музыка была всегда любимое искусство образованных горюхинцев, балалайка
и волынка, услаждая чувствительные сердца, поныне раздаются в их жилищах,
особенно в древнем общественном здании, украшенном елкою и изображением
двуглавого орла.
Поэзия некогда процветала в древнем Горюхине. Доныне стихотворения
Архипа Лысого сохранились в памяти потомства.
В нежности не уступят они эклогам известного Виргилия, в красоте
воображения далеко превосходят они идиллии г-на Сумарокова. И хотя в
щеголеватости слога и уступают новейшим произведениям наших муз, но
равняются с ними затейливостию. и остроумием.
Приведем в пример сие сатирическое стихотворение: Ко боярскому двору
Антон староста идет, (2)
Бирки в пазухе несет, (2)
Боярину подает,
А боярин смотрит,
Ничего не смыслит.
Ах ты, староста Антон,
Обокрал бояр кругом,
Село по миру пустил,
Старостиху надарил.
Познакомя таким образом моего читателя с этнографическим и
статистическим состоянием Горюхина и со нравами и обычаями его обитателей,
приступим теперь к самому повествованию.
БАСНОСЛОВНЫЕ ВРЕМЕНА
СТАРОСТА ТРИФОН
Образ правления в Горюхине несколько раз изменялся. Оно попеременно
находилось под властию старшин, выбранных миром, приказчиков, назначенных
помещиком, и наконец непосредственно под рукою самих помещиков. Выгоды и
невыгоды сих различных образов правления будут развиты мною в течение моего
повествования.
Основание Горюхина и первоначальное население оного покрыто мраком
неизвестности. Темные предания гласят, что некогда Горюхино было село
богатое и обширное, что все жители оного были зажиточны, что оброк собирали
единожды в год и отсылали неведомо кому на нескольких возах. В то время все
покупали дешево, а дорого продавали. Приказчиков не существовало, старосты
никого не обижали, обитатели работали мало, а жили припеваючи, и пастухи
стерегли стадо в сапогах. Мы не должны обольщаться сею очаровательною
картиною. Мысль о золотом веке сродна всем народам и доказывает только, что
люди никогда не довольны настоящим и, по опыту имея мало надежды на будущее,
украшают невозвратимое минувшее всеми цветами своего воображения. Вот что
достоверно:
Село Горюхино издревле принадлежало знаменитому роду Белкиных. Но
предки мои, владея многими другими отчинами, не обращали внимания на сию
отдаленную страну. Горюхино платило малую дань и управлялось старшинами,
избираемыми народом на вече, мирскою сходкою называемом.
Но в течение времени родовые владения Белкиных раздробились и пришли в
упадок. Обедневшие внуки богатого деда не могли отвыкнуть от роскошных своих
привычек и требовали прежнего полного дохода от имения, в десять крат уже
уменьшившегося. Грозные предписания следовали одно за другим. Староста читал
их на вече; старшины витийствовали, мир волновался, - а господа, вместо
двойного оброку, получали лукавые отговорки и смиренные жалобы, писанные на
засаленной бумаге и запечатанные грошом.
Мрачная туча висела над Горюхиным, а никто об ней и не помышлял. В
последний год властвования Трифона, последнего старосты, народом избранного,
в самый день храмового праздника, когда весь народ шумно окружал
увеселительное здание (кабаком в просторечии именуемое) или бродил по
улицам, обнявшись между собою и громко воспевая песни Архипа Лысого, въехала
в село плетеная крытая бричка, заложенная парою кляч едва живых; на козлах
сидел оборванный жид, а из брички высунулась голова в картузе и, казалось, с
любопытством смотрела на веселящийся народ. Жители встретили повозку смехом
и грубыми насмешками. (NВ. Свернув трубкою воскраия одежд, безумцы глумились
над еврейским возницею и восклицали смехотворно: "Жид, жид, ешь свиное
ухо!.." - Летопись горюхинского дьячка.) Но сколь изумились они, когда
бричка остановилась посреди села и когда приезжий, выпрыгнув из нее,
повелительным голосом потребовал старосты Трифона. Сей сановник находился в
увеселительном здании, откуда двое старшин почтительно вывели его под руки.
Незнакомец, посмотрев на него грозно, подал ему письмо и велел читать оное
немедленно. Старосты горюхинские имели обыкновение никогда ничего сами не
читать. Староста был неграмотен. Послали за земским Авдеем. Его нашли
неподалеку, спящего в переулке под забором, и привели незнакомцу. Но по
приводе или от внезапного испуга, или от горестного предчувствия, буквы
письма, четко написанного, показались ему отуманенными, и он не был в
состоянии их разобрать. Незнакомец, с ужасными проклятиями отослал спать
старосту Трифона и земского Авдея, отложил чтение письма до завтрашнего дня
и пошел в приказную избу, куда жид понес за ним и его маленький чемодан.
Горюхинцы с безмолвным изумлением смотрели на сие необыкновенное
происшествие, но вскоре бричка, жид и незнакомец были забыты. День кончился
шумно и весело - и Горюхино заснуло, не предвидя, что ожидало его.
С восходом утреннего солнца жители были пробуждены стуком в окошки и
призыванием на мирскую сходку. Граждане один за другим явились на двор
приказной избы, служивший вечевою площадию. Глаза их были мутны и красны,
лица опухлы; они, зевая и почесываясь, смотрели на человека в картузе, в
старом голубом кафтане, важно стоявшего на крыльце приказной избы, - и
старались припомнить себе черты его, когда-то ими виденные. Староста Трифон
и земский Авдей стояли подле него без шапки с видом подобострастия и
глубокой горести. "Все ли здесь?" - спросил незнакомец. "Все ли-ста здесь?"
- повторил староста. "Все-ста", - отвечали граждане. Тогда староста объявил,
что от барина получена грамота, и приказал земскому прочесть ее во услышание
мира. Авдей выступил и громогласно прочел следующее. (NВ. "Грамоту
грозновещую сию списах я у Трифона старосты, у него же хранилася она в
кивоте вместе с другими памятниками владычества его над Горюхиным". Я не мог
сам отыскать сего любопытного письма.)
Трифон Иванов!
Вручитель письма сего, поверенный мой **, едет в отчину мою село
Горюхино для поступления в управление оного. Немедленно по его прибытию
собрать мужиков и объявить им мою барскую волю, а именно: Приказаний
поверенного моего ** им, мужикам, слушаться, как моих собственных. А все,
чего он ни потребует, исполнять беспрекословно, в противном случае имеет он
** поступать с ними со всевозможною строгостию. К сему понудило меня их
бессовестное непослушание, и твое, Трифон Иванов, плутовское потворство.
Подписано NN.
Тогда **, растопыря ноги наподобие буквы хера и подбочась наподобие
ферта, произнес следующую краткую и выразительную речь: "Смотрите ж вы у
меня, не очень умничайте; вы, я знаю, народ избалованный, да я выбью дурь из
ваших голов небось скорее вчерашнего хмеля". Хмеля ни в одной голове уже не
было. Горюхинцы, как громом пораженные, повесили носы - и с ужасом разошлись
по домам.
ПРАВЛЕНИЕ ПРИКАЗЧИКА**
** принял бразды правления и приступил к исполнению своей политической
системы; она заслуживает особенного рассмотрения.
Главным основанием оной была следующая аксиома. Чем мужик богаче, тем
он избалованнее, чем беднее, тем смирнее. Вследствие сего ** старался о
смирности вотчины, как о главной крестьянской добродетели. Он потребовал
опись крестьянам, разделил их на богачей и бедняков. 1) Недоимки были
разложены меж зажиточных мужиков и взыскаемы с них со всевозможною
строгостию. 2) Недостаточные и празднолюбивые гуляки были немедленно
посажены на пашню, если же по его расчету труд их оказывался недостаточным,
то он отдавал их в батраки другим крестьянам, за что сии платили ему
добровольную дань, а отдаваемые в холопство имели полное право откупаться,
заплатя сверх недоимок двойной годовой оброк. Всякая общественная повинность
падала на зажиточных мужиков. Рекрутство же было торжеством корыстолюбивому
правителю; ибо от оного по очереди откупались все богатые мужики, пока,
наконец, выбор не падал на негодяя или разоренного *. Мирские сходки были
уничтожены. Оброк собирал он понемногу и круглый год сряду. Сверх того завел
он нечаянные сборы. Мужики, кажется, платили и не слишком более противу
прежнего, но никак не могли ни наработать, ни накопить достаточно денег. В
три года Горюхино совершенно обнищало.
Горюхино приуныло, базар запустел, песни Архипа Лысого умолкли.
Ребятишки пошли по миру. Половина мужиков была на пашне, а другая служила в
батраках; и день храмового праздника сделался, по выражению летописца, не
днем радости и ликования, но годовщиною печали и поминания горестного.
* Посадил окаянный приказчик Антона Тимофеева в железы, а старик
Тимофей сына откупил за 100 р.; а приказчик заковал Петрушку Еремеева, и
того откупил отец за 68 р., и хотел окаянный сковать Леху Тарасова, но тот
бежал в лес, и приказчик о том вельми крушился и свирепствовал во словесах,
а отвезли в город и отдали в рекруты Ваньку пьяницу (Донесение горюхинских
мужиков).
РОСЛАВЛЕВ
Читая "Рославлева", с изумлением увидела я, что завязка его основана на
истинном происшествии, слишком для меня известном. Некогда я была другом
несчастной женщины, выбранной г. Загоскиным в героини его повести. Он вновь
обратил внимание публики на происшествие забытое, разбудил чувства
негодования, усыпленные временем, и возмутил спокойствие могилы. Я буду
защитницею тени, - и читатель извинит слабость пера моего, уважив сердечные
мои побуждения. Буду принуждена много говорить о самой себе, потому что
судьба моя долго была связана с участью бедной моей подруги.
Меня вывезли в свет зимою 1811 года. Не стану описывать первых моих
впечатлений. Легко можно себе вообразить, что должна была чувствовать
шестнадцатилетняя девушка, променяв антресоли и учителей на беспрерывные
балы. Я предавалась вихрю веселия со всею живостию моих лет и еще не
размышляла... Жаль: тогдашнее время стоило наблюдения.
Между девицами, выехавшими вместе со мною, отличалась княжна ** (г.
Загоскин назвал ее Полиною, оставлю ей это имя). Мы скоро подружились вот по
какому случаю.
Брат мой, двадцатидвухлетний малый, принадлежал сословию тогдашних
франтов, он считался в Иностранной коллегии и жил в Москве, танцуя и
повесничая. Он влюбился в Полину и упросил меня сблизить наши домы. Брат был
идолом всего нашего семейства, а из меня делал, что хотел.
Сблизясь с Полиною из угождения к нему, вскоре я искренно к ней
привязалась. В ней было много странного и еще более привлекательного. Я еще
не понимала ее, а уже любила. Нечувствительно я стала смотреть ее глазами и
думать ее мыслями.
Отец Полины был заслуженный человек, то есть ездил цугом и носил ключ и
звезду, впрочем был ветрен и прост. Мать ее была, напротив, женщина
степенная и отличалась важностию и здравым смыслом.
Полина являлась везде; она окружена была поклонниками; с нею
любезничали - но она скучала, и скука придавала ей вид гордости и
холодности. Это чрезвычайно шло к ее греческому лицу и к черным бровям. Я
торжествовала, когда мои сатирические замечания наводили улыбку на это
правильное и скучающее лицо.
Полина чрезвычайно много читала и без всякого разбора. Ключ от
библиотеки отца ее был у ней. Библиотека большею частию состояла из
сочинений писателей XVIII века. Французская словесность, от Монтескье до
романов Кребильона, была ей знакома. Руссо знала она наизусть. В библиотеке
не было ни одной русской книги, кроме сочинений Сумарокова, которых Полина
никогда не раскрывала. Она сказывала мне, что с трудом разбирала русскую
печать, и, вероятно, ничего по-русски не читала, не исключая и стишков,
поднесенных ей московскими стихотворцами.
Здесь позволю себе маленькое отступление. Вот уже, слава богу, лет
тридцать, как бранят нас бедных за то, что мы по-русски не читаем и не умеем
(будто бы) изъясняться на отечественном языке (NВ: Автору "Юрия
Милославского" грех повторять пошлые обвинения. Мы все прочли его, и,
кажется, одной из нас обязан он и переводом своего романа на французский
язык.) Дело в том, что мы и рады бы читать по-русски; но словесность наша,
кажется, не старее Ломоносова и чрезвычайно еще ограниченна. Она, конечно,
представляет нам несколько отличных поэтов, но нельзя же ото всех читателей
требовать исключительной охоты к стихам. В прозе имеем мы только "Историю
Карамзина"; первые два или три романа появились два или три года назад,
между тем как во Франции, Англии и Германии книги одна другой замечательнее
следуют одна за другой. Мы не видим даже и переводов; а если и видим, то,
воля ваша, я все-таки предпочитаю оригиналы. Журналы наши занимательны для
наших литераторов. Мы принуждены все, известия и понятия, черпать из книг
иностранных; таким образом и мыслим мы на языке иностранном (по крайней мере
все те, которые мыслят и следуют за мыслями человеческого рода). В этом
признавались мне самые известные наши литераторы. Вечные жалобы наших
писателей на пренебрежение, в коем оставляем мы русские книги, похожи на
жалобы русских торговок, негодующих на то, что мы шляпки наши покупаем у
Сихлера и не довольствуемся произведениями костромских модисток. Обращаюсь к
моему предмету.
Воспоминания светской жизни обыкновенно слабы и ничтожны даже в эпоху
историческую. Однако ж появление в Москве одной путешественницы оставило во
мне глубокое впечатление. Эта путешественница - m-me de Stael {1}. Она
приехала летом, когда большая часть московских жителей разъехалась по
деревням. Русское гостеприимство засуетилось; не знали, как угостить славную
иностранку. Разумеется, давали ей обеды. Мужчины и дамы съезжались поглазеть
на нее и были по большей части недовольны ею. Они видели в ней
пятидесятилетнюю толстую бабу, одетую не по летам. Тон ее не понравился,
речи показались слишком длинны, а рукава слишком коротки. Отец Полины,
знавший m-me de Stael еще в Париже, дал ей обед, на который скликал всех
наших московских умников. Тут увидела я сочинительницу "Корины". Она сидела
на первом месте, облокотясь на стол, свертывая и развертывая прекрасными
пальцами трубочку из бумаги. Она казалась не в духе, несколько раз
принималась говорить и не могла разговориться. Наши умники ели и пили в свою
меру и, казалось, были гораздо более довольны ухою князя, нежели беседою
m-me de Staël. Дамы чинились. Те и другие только изредка прерывали
молчание, убежденные в ничтожестве своих мыслей и оробевшие при европейской
знаменитости. Во все время обеда Полина сидела как на иголках. Внимание
гостей разделено было между осетром и m-me de Stael. Ждали от нее поминутно
bon-mot; {2} наконец вырвалось у ней двусмыслие, и даже довольно смелое. Все
подхватили его, захохотали, поднялся шепот удивления; князь был вне себя от
радости. Я взглянула на Полину. Лицо ее пылало, и слезы показались на ее
глазах. Гости встали из-за стола, совершенно примиренные с m-me de Stael:
она сказала каламбур, который они поскакали развозить по городу.
"Что с тобою сделалось, ma chere? {3} - спросила я Полину, - неужели
шутка, немножко вольная, могла до такой степени тебя смутить?" - "Ах, милая,
- отвечала Полина, - я в отчаянии! Как ничтожно должно было показаться наше
большое общество этой необыкновенной женщине! Она привыкла быть окружена
людьми, которые ее понимают, для которых блестящее замечание, сильное
движение сердца, вдохновенное слово никогда не потеряны; она привыкла к
увлекательному разговору, высшей образованности. А здесь... Боже мой! Ни
одной мысли, ни одного замечательного слова в течение трех часов! Тупые
лица, тупая важность - и только! Как ей было скучно! Как она казалась
утомленной! Она видела, чего им было надобно, что могли понять эти обезьяны
просвещения, и кинула им каламбур. А они так и бросились! Я сгорела со стыда
и готова была заплакать... Но пускай, - с жаром продолжала Полина, - пускай
она вывезет об нашей светской черни мнение, которого они достойны. По
крайней мере она видела наш добрый простой народ и понимает его. Ты слышала,
что сказала она этому старому, несносному шуту, который из угождения к
иностранке вздумал было смеяться над русскими бородами: "Народ, который,
тому сто лет, отстоял свою бороду, отстоит в наше время и свою голову". Как
она мила! Как я люблю ее! Как ненавижу ее гонителя!"
Не я одна заметила смущение Полины. Другие проницательные глаза
остановились на ней в ту же самую минуту: черные глаза самой m-me de Sta
ël. Не знаю, что подумала она, но только она подошла после обеда к моей
подруге и с нею разговорилась. Чрез несколько дней m-me de Sta ël
написала ей следующую записку:
Ma chère enfant, je suis toute malade. Il serait bien aimable
à vous de venir me ranimer. Tâchez de l'obtenir de m-me votre
mère et veuillez lui présenter les respects de votre amie de
S. {4}
Эта записка хранится у меня. Никогда Полина не объясняла мне своих
сношений с m-me de Staël, несмотря на все мое любопытство. Она была без
памяти от славной женщины, столь же добродушной, как и гениальной.
До чего доводит охота к злословию! Недавно рассказывала я все это в
одном очень порядочном обществе. "Может быть, - заметили мне, - m-me de
Stael была не что иное, как шпион Наполеонов, а княжна ** доставляла ей
нужные сведения". - "Помилуйте, - сказала я, - m-me de Stael, десять лет
гонимая Наполеоном, благородная добрая m-me de Stael;l, насилу убежавшая под
покровительство русского императора, m-me de Stael, друг Шатобриана и
Байрона, m-me de Stael будет шпионом у Наполеона!.." - "Очень, очень может
статься, - возразила востроносая графиня Б. - Наполеон был такая бестия, a
m-me de Stael претонкая штука!"
Все говорили о близкой войне и, сколько помню, довольно легкомысленно.
Подражание французскому тону времен Людовика XV было в моде. Любовь к
отечеству казалась педантством. Тогдашние умники превозносили Наполеона с
фанатическим подобострастием и шутили над нашими неудачами. К несчастию,
заступники отечества были немного простоваты; они были осмеяны довольно
забавно и не имели никакого влияния. Их патриотизм ограничивался жестоким
порицанием употребления французского языка в обществах, введения иностранных
слов, грозными выходками противу Кузнецкого моста и тому подобным. Молодые
люди говорили обо всем русском с презрением или равнодушием и, шутя,
предсказывали России участь Рейнской конфедерации. Словом, общество было
довольно гадко.
Вдруг известие о нашествии и воззвание государя поразили нас. Москва
взволновалась. Появились простонародные листки графа Растопчина; народ
ожесточился. Светские балагуры присмирели; дамы вструхнули. Гонители
французского языка и Кузнецкого моста взяли в обществах решительный верх, и
гостиные наполнились патриотами: кто высыпал из табакерки французский табак
и стал нюхать русский; кто сжег десяток французских брошюрок, кто отказался
от лафита и принялся за кислые щи. Все закаялись говорить по-французски; все
закричали о Пожарском и Минине и стали проповедовать народную войну,
собираясь на долгих отправиться в саратовские деревни.
Полина не могла скрывать свое презрение, как прежде не скрывала своего
негодования. Такая проворная перемена и трусость выводили ее из терпения. На
бульваре, на Пресненских прудах, она нарочно говорила по-французски; за
столом в присутствии слуг нарочно оспоривала патриотическое хвастовство,
нарочно говорила о многочисленности наполеоновых войск, о его военном гении.
Присутствующие бледнели, опасаясь доноса, и спешили укорить ее в
приверженности ко врагу отечества. Полина презрительно улыбалась. "Дай бог,
- говорила она, - чтобы все русские любили свое отечество, как я его люблю".
Она удивляла меня. Я всегда знала Полину скромной и молчаливой и не
понимала, откуда взялась у ней такая смелость. "Помилуй, - сказала я
однажды, - охота тебе вмешиваться не в наше дело. Пусть мужчины себе дерутся
и кричат о политике; женщины на войну не ходят, и им дела нет до Бонапарта".
Глаза ее засверкали. "Стыдись, - сказала она, - разве женщины не имеют
отечества? разве нет у них отцов, братьев, мужьев? Разве кровь русская для
нас чужда? Или ты полагаешь, что мы рождены для того только, чтоб нас на
бале вертели в экосезах, а дома заставляли вышивать по канве собачек? Нет, я
знаю, какое влияние женщина может иметь на мнение общественное или даже на
сердце хоть одного человека. Я не признаю уничижения, к которому присуждают
нас. Посмотри на m-me de Stael: Наполеон боролся с нею, как с неприятельскою
силой... И дядюшка смеет еще насмехаться над ее робостию при приближении
французской армии! "Будьте покойны, сударыня: Наполеон воюет против России,
не противу вас..." Да! если б дядюшка попался в руки французам, то его бы
пустили гулять по Пале-Роялю; но m-me de Stael в таком случае умерла бы в
государственной темнице. А Шарлот Корде, а наша Марфа Посадница? а княгиня
Дашкова? чем я ниже их? Уж, верно, не смелостию души и решительностию". Я
слушала Полину с изумлением. Никогда не подозревала я в ней такого жара,
такого честолюбия. Увы! К чему привели ее необыкновенные качества души и
мужественная возвышенность ума? Правду сказал мой любимый писатель: II n'est
de bonheur que dans les voies communes {5} *.
Приезд государя усугубил общее волнение. Восторг патриотизма овладел
наконец и высшим обществом. Гостиные превратились в палаты прений. Везде
толковали о патриотических пожертвованиях. Повторяли бессмертную речь
молодого графа Мамонова, пожертвовавшего всем своим имением. Некоторые
маменьки после того заметили, что граф уже не такой завидный жених, но мы
все были от него в восхищении. Полина бредила им. "Вы чем пожертвуете?" -
спросила она раз у моего брата. "Я не владею еще моим имением, - отвечал мой
повеса. - У меня всего навсе тридцать тысяч долгу: приношу их в жертву на
алтарь отечества". Полина рассердилась. "Для некоторых людей,- сказала она,
- и честь и отечество, все безделица. Братья их умирают на поле сражения, а
они дурачатся в гостиных. Не знаю, найдется ли женщина, довольно низкая,
чтоб позволить таким фиглярам притворяться перед нею в любви". Брат мой
вспыхнул. "Вы слишком взыскательны, княжна, - возразил он. - Вы требуете,
чтобы все видели в вас m-me de Stael и говорили бы вам тирады из "Корины".
Знайте, что кто шутит с женщиною, тот может не шутить перед лицом отечества
и его неприятелей". С этим словом он отвернулся. Я думала, что они навсегда
поссорились, но ошиблась: Полине понравилась дерзость моего брата, она
простила ему неуместную шутку за благородный порыв негодования и, узнав
через неделю, что он вступил в Мамоновский полк, сама просила, чтоб я их
помирила. Брат был в восторге. Он тут же предложил ей свою руку. Она
согласилась, но отсрочила свадьбу до конца войны. На другой день брат мой
отправился в армию.
Наполеон шел на Москву; наши отступали; Москва тревожилась. Жители ее
выбирались один за другим. Князь и княгиня уговорили матушку вместе ехать в
их ***скую деревню.
Мы приехали в **, огромное село в двадцати верстах от губернского
города. Около нас было множество соседей, большею частию приезжих из Москвы.
Всякий день все бывали вместе; наша деревенская жизнь походила на городскую.
Письма из армии приходили почти каждый день, старушки искали на карте
местечка бивака и сердились, не находя его. Полина занималась одною
политикою, ничего не читала, кроме газет, растопчинских афишек, и не
открывала ни одной книги. Окруженная людьми, коих понятия были ограничены,
слыша постоянно суждения нелепые и новости неосновательные, она впала в
глубокое уныние; томность овладела ее душою. Она отчаивалась в спасении
отечества, казалось ей, что Россия быстро приближается к своему падению,
всякая реляция усугубляла ее безнадежность, полицейские объявления графа
Растопчина выводили ее из терпения. Шутливый слог их казался ей верхом
неприличия, а меры, им принимаемые, варварством нестерпимым. Она не
постигала мысли тогдашнего времени, столь великой в своем ужасе, мысли,
которой смелое исполнение спасло Россию и освободило Европу. Целые часы
проводила она, облокотясь на карту России, рассчитывая версты, следуя за
быстрыми движениями войск. Странные мысли приходили ей в голову. Однажды она
мне объявила о своем намерении уйти из деревни, явиться в французский
лагерь, добраться до Наполеона и там убить его из своих рук. Мне не трудно
было убедить ее в безумстве такого предприятия - но мысль о Шарлоте Корде
долго ее не оставляла.
Отец ее, как уже вам известно, был человек довольно легкомысленный; он
только и думал, чтоб жить в деревне как можно более по-московскому. Давал
обеды, завел theatre de societe; {6}, где разыгрывал французские proverbes
{7} и всячески старался разнообразить наши удовольствия. В город прибыло
несколько пленных офицеров. Князь обрадовался новым лицам и выпросил у
губернатора позволение поместить их у себя...
Их было четверо - трое довольно незначащие люди, фанатически преданные
Наполеону, нестерпимые крикуны, правда, выкупающие свою хвастливость
почтенными своими ранами. Но четвертый был человек чрезвычайно
примечательный.
Ему было тогда 26 лет. Он принадлежал хорошему дому. Лицо его было
приятно. Тон очень хороший. Мы тотчас отличили его. Ласки принимал он с
благородной скромностию. Он говорил мало, но речи его были основательны.
Полине он понравился тем, что первый мог ясно ей истолковать военные
действия и движения войск. Он успокоил ее, удостоверив, что отступление
русских войск было не бессмысленный побег и столько же беспокоило французов,
как ожесточало русских. "Но вы, - спросила его Полина, - разве вы не
убеждены в непобедимости вашего императора?" Сеникур (назову же и его
именем, данным ему г-м Загоскиным) - Сеникур, несколько помолчав, отвечал,
что в его положении откровенность была бы затруднительна. Полина
настоятельно требовала ответа. Сеникур признался, что устремление
французских войск в сердце России могло сделаться для них опасно, что поход
1812 года, кажется, кончен, но не представляет ничего решительного. "Кончен!
- возразила Полина, - а Наполеон все еще идет вперед, а мы все еще
отступаем!" - "Тем хуже для нас", - отвечал Сеникур и заговорил о другом
предмете.
Полина, которой надоели и трусливые предсказания, и глупое хвастовство
наших соседей, жадно слушала суждения, основанные на знании дела и
беспристрастии. От брата получала я письма, в которых толку невозможно было
добиться. Они были наполнены шутками, умными и плохими, вопросами о Полине,
пошлыми уверениями в любви и проч. Полина, читая их, досадовала и пожимала
плечами. "Признайся, - говорила она, - что твой Алексей препустой человек.
Даже в нынешних обстоятельствах, с полей сражений находит он способ писать
ничего не значащие письма, какова же будет мне его беседа в течение тихой
семейственной жизни?" Она ошиблась. Пустота братниных писем происходила не
от его собственного ничтожества, но от предрассудка, впрочем самого
оскорбительного для нас: он полагал, что с женщинами должно употреблять
язык, приноровленный к слабости их понятий, и что важные предметы до нас не
касаются. Таковое мнение везде было бы невежливо, но у нас оно и глупо. Нет
сомнения, что русские женщины лучше образованны, более читают, более мыслят,
нежели мужчины, занятые бог знает чем.
Разнеслась весть о Бородинском сражении. Все толковали о нем; у всякого
было свое самое верное известие, всякий имел список убитым и раненым. Брат
нам не писал. Мы чрезвычайно были встревожены. Наконец один из развозителей
всякой всячины приехал нас известить о его взятии в плен, а между тем
пошепту объявил Полине о его смерти. Полина глубоко огорчилась. Она не была
влюблена в моего брата и часто на него досадовала, но в эту минуту она в нем
видела мученика, героя, и оплакивала втайне от меня. Насколько раз я застала
ее в слезах. Это меня не удивляло, я знала, какое болезненное участие
принимала она в судьбе страждущего нашего отечества. Я не подозревала, что
было еще причиною ее горести.
Однажды утром гуляла я в саду; подле меня шел Сеникур; мы разговаривали
о Полине. Я заметила, что он глубоко чувствовал ее необыкновенные качества и
что ее красота сделала на него сильное впечатление. Я, смеясь, дала ему
заметить, что положение его самое романическое. В плену у неприятеля раненый
рыцарь влюбляется в благородную владетельницу замка, трогает ее сердце и
наконец получает ее руку. "Нет, - сказал мне Сеникур, - княжна видит во мне
врага России и никогда не согласится оставить свое отечество". В эту минуту
Полина показалась в конце аллеи, мы пошли к ней навстречу. Она приближалась
скорыми шагами. Бледность ее меня поразила.
"Москва взята", - сказала она мне, не отвечая на поклон Сеникура;
сердце мое сжалось, слезы потекли ручьем. Сеникур молчал, потупя глаза.
"Благородные, просвещенные французы, - продолжала она голосом, дрожащим от
негодования, - ознаменовали свое торжество достойным образом. Они зажгли
Москву - Москва горит уже два дни". - "Что вы говорите, - закричал Сеникур,
- не может быть". - "Дождитесь ночи, - отвечала она сухо, - может быть,
увидите зарево". - "Боже мой! Он погиб, - сказал Сеникур; как, разве вы не
видите, что пожар Москвы есть гибель всему французскому войску, что
Наполеону негде, нечем будет держаться, что он принужден будет скорее
отступить сквозь разоренную, опустелую сторону при приближении зимы с
войском расстроенным и недовольным! И вы могли думать, что французы сами
изрыли себе ад! нет, нет, русские, русские зажгли Москву. Ужасное,
варварское великодушие! Теперь все решено: ваше отечество вышло из
опасности; но что будет с нами, что будет с нашим императором..."
Он оставил нас. Полина и я не могли опомниться. "Неужели, - сказала
она, - Сеникур прав и пожар Москвы наших рук дело? Если так... О, мне можно
гордиться именем россиянки! Вселенная изумится великой жертве! Теперь и
падение наше мне не страшно, честь наша спасена; никогда Европа не осмелится
уже бороться с народом, который рубит сам себе руки и жжет свою столицу".
Глаза ее так и блистали, голос так и звенел. Я обняла ее, мы смешали
слезы благородного восторга и жаркие моления за отечество. "Ты не знаешь? -
сказала мне Полина с видом вдохновенным, - твой брат... он счастлив, он не в
плену - радуйся: он убит за спасение России".
Я вскрикнула и упала без чувств в ее объятия...
* Кажется, слова Шатобриана. (Прим. изд.)
 Вернуться на предыдущую страницу Вернуться на предыдущую страницу
|