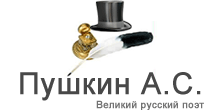Источник:
ГЛАВА I. Отношение А.С. Пушкина к изобразительному искусству.Художником Пушкина не называли никогда, и Пушкин нигде не упоминает, хотел ли он так называться. Но с уверенностью можно говорить, что художников он любил больше, чем свой литературный цех, где его угнетало равенство с Булгариным, унижающегося перед правительством. Художники были ему милее, потому что они жили и работали не группами, как литераторы, а в одиночку. Он не нанес обиды ни одному художнику, чье имя было известно в его дни. На художников Пушкин не написал ни одной эпиграммы, он благожелательно упоминал их при случаях в своих стихах – от Орловского, в раннем «Руслане и Людмиле», до Карла Брюллова, чью «Гибель Помпеи» он удостоил графического наброска и поэтического приложения в черновом тексте 1834 года: «Везувий зев открыл…». В статье, посвященной памяти Пушкина, К.А. Полевой писал: «Он страстно любил искусство и имел в них оригинальный взгляд».3 Пушкин не написал статьи, посвященной изобразительному искусству своего времени, подобно той, которой он посвятил театру. Поэтому чтобы составить представление о его суждениях в этой области приходится выбирать отдельные высказывания из стихов, писем и статей, обращаться к воспоминаниям современников. В своей работе А.М. Эфрос приходит к выводу, что к изобразительному искусству Пушкин был «… холоден и мало внимателен <…>. Скорее всего, он по отношению к искусству Пушкин выполнял обязанности светского человека. <…> Имена художников служили украшением для его поэзии. Он прибегал к ним не часто <…>, лишь когда его текст требовал какого-нибудь наименования мастера, кисти или резца: Пушкин ставил то, которое приходило на память, или лучше дружило с его рифмой. Иногда этого же требовала мода или обычай круга, в котором он жил. <…> Он говорил о художниках то, что говорилось кругом…»4 . Но было и несколько исключений, доказывающих, что Пушкин был не так далек от искусства, как это представляет А.М. Эфрос. В стихотворениях «К бюсту завоевателя» (1829), «Полководец» (1835) и «Художнику» (1836) Пушкин дает сжатую но предельно меткую характеристику изобразительного искусства своего времени. Он по-настоящему был взволнован английским мастером Дау. Оттолкнувшись от портрета М.Б. Барклая де Толли написанного Дау, Пушкин написал «Полководца»: … Он писан во весь рост. Чело, как череп голый, Высоко лоснится, и, мнится, залегла Там грусть великая. Кругом – густая мгла; За ним – военный стан. Спокойный и угрюмый, Он, кажется, глядит с презрительною думой. Свою ли точно мысль художник обнажил, Когда он таковым его изобразил, Или не вольное то было вдохновенье, - Но Доу дал ему такое выраженье…5 О декоративной партретописи плодовитого англичанина Пушкин сказал, описывая галерею героев 12 года в Зимнем дворце: … сверху донизу, во всю длину кругом, Своею кистию свободной и широкой Ее разрисовал художник быстроокий. Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадонн, Ни фавнов с чашами, ни полногрудых жен, Ни плясок, ни охот, - а все плащи, до шпаги, Да лица, полные воинственной отваги… (I, 564) Один из этих портретов он упомянул в прозе, говоря о Ермолове в первой главе «Путешествия в Арзрум»: «… Когда же он задумывается и хмурится, то он становится прекрасен и разительно напоминает поэтический портрет, писанный Довом…» (III, 372) Датский скульптор Торвальдсен, автор бюста Александра I, вызвал у Пушкина знаменитые строки: «Напрасно видишь тут ошибку…» («К бюсту завоевателя»), в которых он подчеркнул искусств ваятеля передавать душевное состояние модели: Рука искусство навела На мрамор этих уст улыбку, А гнев на хладный лоск чела (I, 460). Стихотворение «Художнику» было написано после посещения Пушкиным мастерской Б.И. Орловского – автора монументов М.И. Кутузова и М.Б. Барклая де Толли в Петербурге: Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую: Гипсу ты мысль даешь, мрамор послушен тебе: Сколько богов, и богинь, и героев!.. Вот Зевс громовержец, Вот исподлобья глядит, дуя в цевницу, сатир. Здесь зачинатель Барклай, а здесь совершитель Кутузов. Тут Аполлон – идеал, там Ниобия – печаль … (I, 582). В строках этих стихов – косвенное отражение сложных процессов, происходивших в изобразительном искусстве первой половины XIX в.: хотя и преобладают еще в живописи и скульптуре идеалы классицизма и отвлеченные «высокие» темы, но все усиливается интерес к человеческой личности, к ее духовному миру. Можно также утверждать, что Пушкин тонко чувствовал скульптуру, ее стиль. Так, например, бронзовая фонтанная скульптура «Молочница с разбитым кувшином» (Скульптор П.П. Соколов), которая находится в парке царского села, хотя и имеет жанровый мотив, но в нем нет и тени бытовизма. Девушка воспринимается как античная нимфа, а не заурядная молочница, изысканный плавный силуэт печально склоненной головы опущенной на руку, ощущения шелковистости струящейся ткани наконец сам материал – бронза – характерны для ампира. И Пушкин пишет строки, посвященные царско-сельской статуе, в духе античности, греческим гекзаметром: Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила. Дева печальна сидит, праздный держа черепок. Чудо! Не сякнет вода, изливаясь из урны разбитый, Дева над вечной струей, вечно печальна сидит (I, 478). Существуют и прямые попытки воспроизвести скульптуры. В настоящее время выявлены три зарисовки скульптур в рукописях Пушкина. И, если исходить из того, что поэту ближе были линейные графические виды искусства, нежели пластические, то их и в самом деле должно быть немного. В первую очередь это подписанная им самим зарисовка статуи Вольтера, работы Ж.-А. Гудона, хранившаяся в Эрмитаже в библиотеке Вольтера (рис. 1). Во время работы там Пушкин делает выписки из книг в свою записную книжку и на одном из листов набрасывает скульптуру, видимо, произвёдшую на него впечатление ощущением живости, некоей гротескностью. Мы и сейчас можем увидеть эту скульптуру в одном из залов Эрмитажа. Внизу наброска поэт подписывает: «10 mars 1832 Bibl. de V.». Другая выявленная зарисовка скульптуры - со статуи летящего Меркурия работы Дж. Болоньи (рис.2). На листе изображено множество женских ножек, портретов. Нога Меркурия повторена еще один раз справа от наброска более крупно. Эта статуэтка была известна Пушкиным по антологическому стихотворению А. Дельвига «Надпись на статую флорентийского Меркурия», напечатанному в 1820 г. в «Невском зрителе»: Перст указует на даль, на голове развилися крылья, Дышит свободою грудь, с легкостью дивною он, В землю ударя крылатой ногой, кидается в воздух … Миг – и умчится! Таков полный восторга певец.6 Еще одна возможная прорисовка скульптуры в рукописях Пушкина – с Давида работы Микеланджело (рис.3). Однако она выполнена, скорее всего, с одной из многочисленных гравюр, воспроизводимых в самых различных изданиях, - видимо, по памяти. Существует и прямая попытка воспроизвести у Пушкина одну картинку. Это было связано с появлением «Гибели Помпеи», в Петербурге, летом 1834 года (ее привезли в Россию из Италии), которая, по-видимому, на Пушкина произвела большое впечатление. Он впервые попытался непосредственно воспроизвести картину (рис.4), но это ему не удалось, хотя он и не выходил за границы простого описательства. Но показательно также, что рисунок носил столь же мимолетный, необработанный характер, как и стихотворные наброски к «Последнему дню Помпеи», которые находятся на обоих смежных листах. Он дважды начинал писать стихи и оба раза бросил. Он ходил вокруг да около, переставляя одни и те же слова и выражения, пока не отказался от своего намерения. Но и то, что написал Пушкин это пересказ «Последнего дня Помпеи»: Везувий зев открыл – дым хлынул клубом – пламя Широко развилась, как боевое знамя. Земля волнуется – с шатнувшихся колонн Кумиры падают! Народ, гонимый страхом, Толпами, стар и млад, под воспаленным прахом, Под каменным дождем бежит из града вон (I, 529). Как уже говорилось, Пушкин сделал две попытки описания, но оно показалось ему неудачным, и он решил ограничится рисунком: Пушкин на память набросал одну из центральных фигур композиции «Последний день Помпеи» фигуры сыновей, несущих на плечах старика – отца. Видимо, вся затея была отражением шума общества вокруг прославленного произведения. Может быть, от Пушкина ждали отклика и он пытался дать ответ, а, возможно, под первым впечатлением, он сам себе дал поэтический заказ. Пушкин очень ценил Брюллова об этом нам говорят послание поэта к жене: «…Он очень мне понравился. <...> Мне очень хочется привезти Брюллова в Петербург. А он настоящий художник, добрый малый, и готов на все…».7 Существует еще одно доказательство того, что Пушкин очень ценил творчество Брюллова. За четыре дня до смерти он вместе с Жуковским навестил К.П. Брюллова в его мастерской. А.Н. Мокрицкий, в своем дневнике писал позднее об этом визите: «Сошлись они вместе, и Карл Павлович угощал их своей портфелью и альбомами. Весело было смотреть, как они любовались и восхищались его дивными акварельными рисунками, но когда он показал им не давно оконченный рисунок: «Съезд на бал к австрийскому посланнику в Смирне», то восторг их выразился криком и смехом <...> Пушкин не мог расстаться с этим рисунком, хохотал до слез и просил Брюллова подарить ему это сокровище, но рисунок принадлежал уже княгине Салтыковой, и Карл Павлович, уверяя его, что не может отдать, обещал нарисовать ему другой. Пушкин был безутешен».8 По свидетельству другого ученика Брюллова, М.И. Железнова, художник в этот день «… обещал Пушкину написать с него портрет и назначил время для сеанса. На беду, дуэль Пушкина состоялась днем ранее».9 Сохранились воспоминания современников о посещении Пушкиным выставок Общества поощрения художников в Академии художеств, на которых новые работы преподавателей и студентов выставлялись на суд широкой публики. И.К. Айвазовский до конца жизни взволнованно вспоминал, как в сентябре 1836 г. он был представлен Пушкину, пожелавшему познакомиться с его работами, и как доброжелателен и весел был поэт во время осмотра выставки.10 Через месяц Пушкин снова посетил Академию, отметив на этот раз скульптуры Н.С. Пименова и А.В. Логановского, изображающие русских крестьян за национальными играми: «Слава богу, наконец и скульптура в России явилась народная!» - воскликнул он.11 Под впечатлением от этой выставки Пушкиным были написаны два стихотворения «На статую играющего в свайку» и «Н статую играющего в бабки». Здесь Пушкинские строки «зафотографировали» движение обеих статуй: «Юноша, полный красы, напряженья, усилия чуждый, // Строен, лёгок и могуч, тешется быстрой игрой!»(I,588); «Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о колено // Бодро опёрся, другой поднял меткую кость»(I,588). Но о Пименове и Логановском не сказано ничего. Есть у Пушкина два стихотворения прямо обращенные к художнику. Но в них нет пушкинских раздумий об искусстве. Они носят светский характер. Это обращения к Д. Дау: Зачем твой дивный карандаш Рисует мой арабский профиль?(I,420) и к Кипренскому («Любимец моды легкокрылой…»). Для искусства Дау Пушкин нашел лишь выражение: «… твой дивный карандаш…» - но, скорее всего не в Дау тут было ело, а в светской красавице, к которой Пушкин собирался свататься: «Рисуй Олениной черты…»; Кипренскому дано определение: «любимец моды», и самой нетрудной из эпитетов: «волшебник милый». На протяжении 25 лет мы встретим в его произведениях, среди имен художников, еще только два русских, а остальные – иностранцы. Русские – это А. Орловский и Ф. Толстой. Орловский нравился Пушкину в конце лицейских годов. Упоминается Орловский в поэме «Руслан и Людмила»: Бери свой быстрый карандаш, Рисуй, Орловский, ночь и сечу! (I, 677). Рисунки художника мгновенные, не боящиеся преувеличений, карикатурностей, клякс, носящие черновой характер, сделаны как бы для себя. Этим они очень близки к рисункам самого поэта. Может сложиться впечатление, что Орловский является учителем Пушкина в рисунке, а, возможно, что даже Пушкин знает его. Однако вот письмо из Каменки, помеченное 4-го декабря 1820 г. У Пушкина это самое подробное упоминание об Орловском. Пушкин пишет Гнедичу: «Кто такой В., который хвалит мое целомудрие, укоряет меня в бесстыдстве, говорит мне: красней, несчастный (что между прочим очень неучтиво), говорит, что характеры моей поэмы писаны мрачными красками этого нежного чувствительного Корреджио и смелою кистью Орловского, который кисти в руки не берет и рисует только постовые тройки да киргизских лошадей»;12 об этих лошадях Пушкин упомянул и в первой главе «Путешествие в Арзрум» 1829 г.: «У кибиток пасутся уродливые, косматые кони, знакомые вам по прекрасным рисункам Орловского» (III, 373). Из письма мы видим, что даже о своем любимом Орловском Пушкин был мало осведомлен, так как Орловский, как раз, кисть в руки брал часто и живописью занимался много. То же было и с Федором Толстым. Все его искусство Пушкин свел к альбомной виртуозности. Он так и выразился в 4 главе «Онегина»: Великолепные альбомы, Мученье модных рифмачей, Вы, украшенные проворно Толстого кистью чудотворно… (II, 251). Крупнейший мастер Медальонов посвященный Отечественной войне, упомянут лишь как автор виньеток в альбомах. Но в «Онегине» повторено лишь то, что годом раньше было написано в послание к брату Льву и Плетневу (1825г.): «Эпиграфа или не надо, или из A.Chénier. Виньетку бы не худо: даже можно, даже нужно – даже ради Христа, сделайте; именно: Психея, которая задумалась над цветком. <...> Что, если бы волшебная кисть Ф. Толстого … - Нет! Слишком дорога! А ужасть, как мила!…»13 Эпитет волшебная (о кисти) не больше, чем любезность, то же самое мы наблюдали в отношении к Кипренскому. Не даром дальше следует неожиданное заключение: «В прочем, это все наружность …».14 Беглое отношение к живописи пошло с Лицея. Вот доказательства: в поэтических сочинениях мы встретим лишь пять имен западных художников, которых нет в описаниях лицейских лет. Эти имена: «Ван - Дик», «Бонаротти», «Сальватор Роза», «Канова», «Рембрандт». Но все пять упоминаний случайны: «Ван – Дик» появляется вариантом первоначальному «Рафаэлю» в третьей главе «Евгения Онегина» (строфа V): «В черта у Ольги жизни нет, // Как в Рафаэлевой Мадонне»;15 в опубликованном тексте читаем: «… Точь – в – точь в Вандиковой Мадонне». (II, 226). «Канова» мелькает в стихотворение: «Кто знает край, где небо блещет» (1827г.): … Где в наши дни резец Кановы Послушный мрамор оживлял… (I, 418). «Сальватор Роза» упомянут мимоходом, по косвенной ассоциации, в третьей главе «Путешествия в Арзрум»: «Мы нашли графа на кровле подземной сакли перед огнем. К нему приводили пленных. Он их расспрашивал. Тут находились и почти все начальники. Казаки держали в поводьях их лошадей. Огонь освещал картину, достойную Сальватора – Розы, речка шумела во мраке» (III, 398). «Бонаротти» - побочный образ в последних строках «Моцарта и Сальери»: А Бонаротти? Или это сказка Тупой, бессмысленной толпы – и не был Убийцею создатель Ватикана? (II, 450). Искать истоки беглого отношения к живописи надо в лицейском периоде. Поэма «Монах» (1814 г.) в этом отношении является определяющим образцом лицейского искусствознания Пушкина. Это своего рода пушкинская энциклопедия искусства. В ней есть упоминание о мастерах, которых потом мы ни когда больше не встретим у Пушкина. Здесь нет ни одного русского имени. В поэме Пушкин упоминает Рафаэля, Тициана, Корреджо, Рубенса, Пуссена, Верне и Альбани. Имена художников служили, скорее всего, лишь свидетельством эрудиции поэта: … И, выпив в миг шампанского стакан, Трудится б стал я жаркой головою, Как Цициан иль пламенный Альбан… (I, 14). В поэме Пушкин решается на соединение Пуссена и Жозефа Верне, приведенная в той же песне несколькими строками ниже: «Иль краски б взял Вернета иль Пуссина…» (I, 14). Пуссена и Верне разделяет не только манера рисовать, но и столетие в истории живописи. Ниже идет пейзажное описание, в котором можно узнать манеру Верне, даже если бы имени художника во вступительном стихе не было. Это, пожалуй, самое точное описание живописи во всей поэзии Пушкина: На небосклон палящих южных стран Возведши ночь с задуманной луною, Представил бы над серою скалою, В круг коей бьет шумящий океан, Высокие, покрыты мхом стены; И там в волнах, где дышит ветерок, На серебре, вкруг скал блестящей пены, Зефирами колеблемый челнок (II,14) Это похожесть можно объяснить тем, что Пушкин мог видеть гравюры с картин Верне, но гравированных картин с лунным светом немного, и ни одна из них точно не отвечает стихотворному описанию «Монаха»; в них есть то, что упоминается в восьмистишьи, но еще больше того о чем оно молчит. Пушкин мог видеть картины (например, «Лунная ночь» или «Ночной пейзаж - луна»), но это только подобие того, что писал он. Быть может где-то в Петербурге, в Царском Селе, у родных или знакомых, в те времена Пушкину приглянулась картина, послужившая прямым источником его изображения? Но это только догадка. В начале песни стоит еще имя Корреджо. Юный поэт поступает с ним по-своему обыкновению: если бы природа дала ему искусство Корреджо, он стал бы трудиться как Тициан или Альбани: Ах, отчего мне дивная природа Корреджио искусство не дала. Тогда б в число парнасского народа Лихая страсть меня не занесла <...> Я кисти б взял бестрепетной рукою <...> Трудиться б стал я жаркой головою, Как Цициан иль пламенный Албан (I,14) Чтобы поиграть на тот же лад с именем Рубенса, он пишет: …Но Рубенсом на свет я не родился, Не рисовать, а рифмы плесть пустился, Мартынов пусть пленяет кистью нас… (I,15) А.И. Мартынов, один из лицейских рисовальщиков, тот самый, которому он при расставании оставил один из двух своих сохранившихся лицейских рисунков: «Собаку с птичкой». Это сопоставление Рубенса и Мартынова следует считать «сатирическим апофеозом пушкинской истории искусства в «Монахе»».16 Наконец еще одно имя, встречающееся в поэме – Рафаэль (песнь). Его имя здесь лишь символ наряду с «горами золота» и «мрамором». Он противопоставлен символу бедности, - стулу без одной ноги: Взошедши в дом, где мирно жил монах, Не золото увидели б вы горы, Не мрамор там прельстил бы ваши взоры, Там не висел Рафаэль на стенах. Увидели б вы стул о трех ногах … (I,8) Имя Рубенса мы встречаем пять раз: после «Монаха» оно появляется в скрытом варианте описания красоты Ольги («как в Рафаэлевой Мадонне») в третьей главе «Евгения Онегина» (1824 г.); затем – в стихотворении 1827г. «Кто знает край …», - с двойным прохождением по строкам: первое с простым упоминанием «…где Рафаэль живописал» (I,418), второе: «И ты, харитою венчанный // Ты, вдохновенный Рафаэль» (I,419); и последний раз – в стихотворении «Ее глаза», 1828г.: «Поднимет – ангел Рафаэля // Так созерцает божество» (I,424). С Рафаэлем соперничает только Альбани. Мы встретим его в пушкинских стихах четырежды. Но между ними есть важное различие. Рафаэль в «Монахе» отделен от остальных его появлений у Пушкина промежутком до полутора десятилетия. В четырех случаях из пяти они приходятся на зрелый период творчества (1824, 1827, 1828 гг.). На оборот Альбани – это живописец Пушкина – отрока. Его имя, после «Монаха» в лицейские же годы, проходит в стихотворениях: «К живописцу» (1815г.) и «Сон» (1816г.). В одном читаем: «Сокрытый прелестью Альбана // Мою царицу окружи» (I,118); в другом:: «Подайте мне Альбана кисти нежны…» (I,127). Лишь один раз позднее встретим мы отголосок юношеского пристрастия, - через десять лет, в 1826г. в пятой главе «Евгения Онегина» (строфа XL): В начале моего романа (Смотрите первую тетрадь) Хотелось вроде мне Альбана Бал Петербургский описать… (II,274) В это время в Эрмитаже находятся три полотна Альбани: из них два религиозного содержания – «Крещение Господне», «Благовещение» и «Похищение Европы». По мнению М.А. Эфроса, Пушкин видел гравюры и не видел картин. В Царском Селе их не было; в Эрмитаже, в эти годы, не был Пушкин.17 Гравюры же с Альбани многочисленны: XVIII век был к нему благосклонен; граверы всех школ воспроизводили его, ибо это было и почтенно и прибыльно. Чтобы набросать свои стихи, Пушкину достаточно было видеть один – два мифологических листа, - хотя бы популярную сюиту «Les amours de Venus», гравированную с Альбани Этиенном Боде (Baudet) – «Туалет Венеры». Источники пушкинских впечатлений искусства можно назвать литературными в очень узком смысле. Пушкин ,очевидно, не читал ни одного сочинения, ни одного труда, который последовательно бы провел его через важнейшие этапы истории художеств. В лицее этого не требовалось; позднее - не довелось. Лекции Кошанского, читавшего эстетику, философствовали об изящном, а не знакомили с художниками. Пушкин, может быть, обязан лицейскому учителю лишь первыми созвучиями имен, о которых он до этого не слышал, - Корреджо, Рафаэль, Джотто, Чимабуэ и т.д. То, что он мог прочитать сам, либо его миновало вовсе, либо было прочитано, но поверхностно. По мнению А.М. Эфроса «даже Вольтер не смог снабдить поэта нужным материалом из «Temple du gout» и из них «Siécle de Lois» но вольтеранства Пушкина на это не хватило. Может быть, он вообще пренебрегал таким Вольтером».18 В его руки могли бы попасть так же дидактические поэмы Ватлэ, Дюфренэ, Марси или Лемиера. Они как раз предназначались для таких читателей как юный поэт. Они обслуживали в XVIII в. тех, кому не было дела до специальных трактатов и словарей, или до школьных изложений об искусстве. «Поэмы о живописи», «Поэмы об искусстве рисовать» читали и те, для кого поэзия была только досужим развлечением, и те, кому она служила источником самообразования. В пушкинской России эти книги встречались в библиотеках часто. В них мы встретим всех тех, кого Пушкин назвал в «Монахе». Следовательно, напрашивается вывод, что Пушкин, скорее всего, и читал именно эти или подобные им произведения. Но при более подробном анализе «Монаха» нет основания утверждать это, так как ни определения, ни характеристики искусства данные в этих поэмах не отразились в его представлениях об искусстве и художниках. Хотя, формулы приведенные в этих в этих произведениях запоминаются легко: Корреджо – грация, Тициан – гармония, Леонардо – равновесие, Рафаэль – единство и т.п. Эти параллели живописи и поэзии могли бы очень помочь поэту в «Монахе», но он ими не воспользовался. А.М. Эфрос предлагает значительно сузить «фундамент пушкинской истории искусств» и искать первоисточник у двух русских писателей, которые свое влияние на лицейского Пушкина соединили с особым авторитетом в области изобразительных искусств. Это его учителя Карамзин («Письма русского путешественника») и Батюшков («Прогулка в Академию художеств»).19 Чтобы испытать их воздействие, не нужно было иметь специального расположения к искусству. Карамзин и Батюшков открыли историю искусств русскому обществу конца XVIII – начала XIX вв. лицейские годы Пушкина были периодом ее решительного познания. Невосприимчивость к искусству он заменил чувствительностью к моде. Он предпочитал отзываться как – ни будь, чем не отзываться совсем. Он не хотел отстать от учителей, к которым нужно еще причислить не только впечатлительного ко всякому изяществу Жуковского но и Державина, об отношении которого к живописи, к Тончи и Левицкому, Пушкин знал хотя бы по его стихам. Влияние Карамзина отразилось в «Монахе». Пушкин почти дословно переложил в третьей песне своей («Пойманный бес») отрывок карамзинского «Ильи Муромца». Началу «Пойманного беса», - «Ах, отчего мне дивная природа // Корреджио искусства не дала? // Тогда б …» (I,14), - совершенно соответствуют строки Карамзина: Для чего природа дивная не дала мне дара чудного нежной кистию прельщать глаза и писать живыми красками с Тицианом и Корреджием? Ах, тогда бы я представил вам …20 У самого Карамзина эти сравнения берут начало в «Письмах русского путешественника»: «Илья Муромец» написан в 1794г., «Письма» - в 1789 – 1790гг. О Корреджо в «Письмах» говориться: «Кисть его становится в пример нежности и приятности»;21 о Тициане – «Тициан считается первым колористом в свете».22 Первенствование Рафаэля, открывающего поэму и приравненного к величайшим материальным ценностям, было для Пушкина утверждено Карамзиным: «Рафаэль <...> признан единогласно первым в своем искусстве»;23 место Рубенса определено формулой: «Рубенс по справедливости называется фламандским Рафаэлем»;24 пейзажные достоинства Пуссена засвидетельствованы дважды: «Ландшафты его прекрасны»,25 - «Дикая лесная пустыня обратилась в прекрасный английский сад, в живописные ландшафты, в пуссенову картину».26 «Письма» и по сей день поражают нас осведомленностью Карамзина в изобразительном искусстве того времени. Только Батюшков так же тонко чувствовал искусство, но он и писал позже на четверть века, когда внимание к искусству возросло. Карамзинские «Письма» послужили только материалом для «Монаха», но они не объясняют почему именно в это время у Пушкина появились ссылки на творения живописцев. Ответ на этот вопрос А.М. Эфрос предлагает искать у Батюшкова в его знаменитой «Прогулке в Академию художеств» (1814г.)27 Это как раз то время, когда Пушкин приступил к «Монаху» или уже работал над ним. Впечатление, которое произвела «Прогулка» на Пушкина, - общеизвестно. Надо было на многие годы бережно сохранить его в себе, чтобы ответить переложением целых кусков в «Медном Всаднике». Отголоском того же ощущения является тема, связанная с Кипренским. В основу пушкинских стихов к «Кипренскому» - «Любимец моды легкокрылый» - легла характеристика художника, высказанная Батюшковым в «Прогулке»: «Но с каким удовольствием смотрели мы на портреты Кипренского, любимого живописца нашей публики. Правильная и необыкновенная приятность в его рисунке, свежесть, согласие и живость красок – все доказывает его дарование, ум и вкус, нежный и образованный».28 Лицейский Пушкин нашел в «Прогулке» повторенными имена, которые запомнились ему по «Письмам русского путешественника»: Рафаэль, Корреджио, Сальватор Роза и др. Генеральная линия «монашеского» перечня имен совпадает с той, которая названа Батюшковым в отрывке о «новой итальянской школе»: «Они могут называться со временем основателями новой итальянской школы, Scuola Pietrobourghese и затмить своею чудесною кистью славу своих соотечественников, славу Рафаэля, Корреджио, Тициана, Альбана и проч.».29 Не это ли соседство Тициана и Альбани толкнуло не слишком разборчивого по молодости Пушкина на их уравнивание? Батюшков объединил в Пушкине все то, что Карамзин впервые затронул. Батюшков был родоначальником русской художественной критики. «Прогулка» - ее первый высокий, классический образец. Наше искусство в первые нашло в ней живую связь со своей литературой, со своей историей, со своей культурой начала XIXв. Стоит особо сказать об отношении Пушкина к архитектуре. Но говорить об архитектуре, еще сложнее чем о живописи и скульптуре. В своих произведениях Пушкин чаще всего упоминает такие города как Москва и Петербург. В произведениях в основном затрагивается отношение Пушкина к этим городам. А архитектура этих городов упоминается вскользь или в общих чертах. Но все же архитектура столиц не осталась не замеченной поэтом. Пушкин с большим сожалением пишет о разрушенных зданиях в Москве, после пожара 1812г. Где ты, краса Москвы стоглавой, Родимой прелесть стороны? Где прежде взору град являлся величавый, Развалины теперь одни. Москва, сколь русскому твой зрак унылый страшен! Исчезли здания вельможей и царей, Все пламень истребил. Венцы затмились башен, Чертоги пали богачей ( I,54 - 55). Но Москва постепенно восстанавливается. И в более поздних стихах Москва видится поэту «премилой старушкой», «мирной». На протяжении всего творчества в произведениях, где описывается Москва, всегда есть «визитная карточка» ее – это церкви: Всеволожскому (1819г.): Москва пленяет пестротой, Старинной роскошью, пирами, Невестами, колоколами (I,206). «Евгений Онегин» (7-ая глава) 1828г.: Но вот уж близко. Перед ними Уж белокаменной Москвы Как жар, крестами золотыми Горят старинные главы. Ах, братцы! Как я был доволен, Когда церквей и колоколен, Садов, чертогов полукруг Открылся передо мною вдруг! (II,307) «Путешествие из Москвы в Петербург» (1835г.): «…при взгляде на золотые маковки белокаменной».30 Но Москва уже не та, что во время своего детства и это Пушкин отлично понимает «упадок Москвы есть неминуемое следствие возвышения Петербурга. Две столицы не могут в равной степени процветать в одном и том же государстве …».31 Во времена Пушкина Петербург принял окончательный облик, так восхищавший его: … юный град, Полнощных стран краса и диво, Из тьмы лесов, из топи блат Вознесся пышно горделиво… <...> …По оживленным берегам Громады стройные теснятся Дворцов и башен… <...> …Мосты повисли над водами; Темно-зелеными садами Ее покрылись острова. И перед младшею столицей Померкла старая Москва… <...> Люблю тебя, Петра творенье Люблю твой строгий, стройный вид, Невы державное теченье, Береговой ее гранит, Твоих оград узор чугунный, Твоих задумчивых ночей… (II, 173) Символом Петербурга стала высокая башня Адмиралтейства, видимая издалека, с основных сходящихся к ней магистралей левого берега Невы: Когда я в комнате моей Пишу, читаю без лампады, И ясны спящие громады Пустынных улиц, и светлее Адмиралтейская игла. (II, 174) При чтении строк оды «Вольность» перед читателем предстает Михайловский замок, окутанный петербургским туманом, с золоченым шпилем, бледно мерцающем в полутьме. Не обошел Пушкин своим вниманием и другой символ Петербурга – памятник Петру I – тот, что возвышался на Сенатской площади. Памятник Петру I Фальконэ и поэма Пушкина «Медный Всадник» - один из редких случаев глубокого сближения литературы и скульптуры. Петр у Фальконэ – укротитель водной стихии (… чьей волей роковой // Под морем город основался…); именно эта мысль и легла в основу пушкинского образа, - правда, в несколько ином, более трагичном аспекте. Однако образ Петра у Пушкина сложнее, чем у Фальконэ. Если у Фальконе Петр – благодетель своей страны, то у Пушкин отлично понимал другой его лик – лик деспота; именно по этому ему и грозит Евгений: «ужо тебе». Мотив ужаса присутствует на протяжении всей поэмы. С этого Пушкин и начинает свою центральную характеристику: «Ужасен он в окрестной мгле!» Пушкин дважды возвращается вместе с Евгением, созерцающим Петра с подъезда дома, рядом с Исакиевским собором. Отсюда Петр виден почти со спины: И обращен к нему спиною В неколебимой вышине, Над возмущенную Невою Стоит с простертую рукою Кумир на бронзовом коне. (II, 178) Пушкин не зря изобразил памятник со спины, так как именно в этом положении хорошо видны борющиеся в памятнике силы: буйный порыв коня, вынесший его на край скалы, и мощное движение всадника, осадившего его у самого обрыва: конь взвился на дыбы, осев на задние ноги. Отсюда лучше всего видна властная рука Петра, протянутая вперед почти по горизонтали. Только талант Пушкина позволил в полном соответствии с замыслом скульптора воплотить в слове динамику и пластику и выразить символику памятника: Какая сила в нем сокрыта! А в сем коне какой огонь! Куда ты скачешь, гордый конь, И где опустишь ты копыта? О мощный властелин Судьбы! Не так ли ты над самой бездной, На высоте уздой железной Россию поднял на дыбы? (II,182). Пожалуй, нет ни одного человека в России, которому было бы безразлично творение Фальконэ. И А.С. Пушкин, наверное, в своем произведении выразил те чувства и то отношение к памятнику , которое было близко не только ему самому и его современникам, но и потомкам. Есть и графическое изображение данного памятника, но без фигуры Петра .(рис.5): переданы все отличительные черты данного монумента, - вид скалы с ее неровностями, связь постамента с бронзовым конем, змей под копытами, условная приподнятость коня на задние ноги со второй точкой опоры на хвосте. Соприкоснувшись с землей. Но на коне Пушкина, в отличии от памятника Фальконэ, есть седло, узды, стремена и пр. Они были позднее, а в первоначальном виде Пушкин точно передал облик фальконэвского коня. Пушкин не обошел своим вниманием и архитектуру Санкт – Петербурга и Москвы. В стихотворении «Воспоминание о Царском Селе» у Пушкина есть упоминание о лестнице Камероновой галереи(см.№6). Поэт очень метко замечает о ее устремлении к небесам: А там в безмолвии огромные чертоги, О своды опершись несутся к облакам. (I,521) И здание Царскосельского лицея Пушкин запечатлел в своей графике (рис.7).Вид Лицея сделан был Пушкиным на память, но достаточно точно, что говорит о наблюдательности поэта в отношении архитектуры. Лицейские здания взяты с то же стороны с какой их передают старые литографии (см.№8). Пушкин забыл лишь пилястры на церкви слева, да полукруг крыши на здании справа. Все же остальные контуры хорошо сохранены его памятью – перед нами настоящий «портрет Лицея». Архангельское занимает исключительное место в архитектуре конца XVIII – начала XIX вв. Быть может, Пушкин много посещал Архангельское, но известные нам свидетельства современников относятся лишь к двум его поездкам. В 1827г. Пушкин отправляется к Юсупову вместе с П.А. Вяземским. Сохранилось документальное свидетельство этой поездки – акварель Н. де Куртейля – француза, жившего у Юсупова и принимавшего в оформлении интерьеров дворца. Изображен Пушкин на празднике в Архангельском: князь Юсупов в окружении гостей, среди которых Пушкин и Вяземский. В 1830г. Пушкин посвящает князю Н.Б. Юсупову послание «К Вельможе», в котором пишет о его дворце: …увижу сей дворец, Где циркуль зодчего, палитра и резец Ученой прихоти твоей повиновались И вдохновенные в волшебстве состязались. (I,471) Здесь Пушкин косвенно коснулся процесса, который был характерен для его времени: синтез архитектуры и скульптуры. Едва ли можно согласиться с утверждением А.М. Эфроса, что по отношению к искусству Пушкин лишь выполнял обязанности светского человека. На наш взгляд Пушкин хорошо осознавал процессы происходившие в искусстве его времени. И сам Пушкин оставил богатое графическое наследие. В следующей главе работы мы постараемся охарактеризовать основные черты графики Пушкина. |
pushkiniada.ru © 2010. Все права защищены.
Использование материалов сайта допускается только с установкой ссылки на данный сайт.